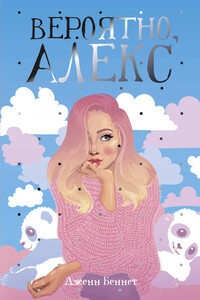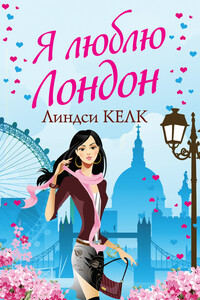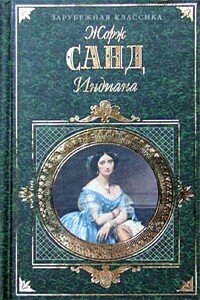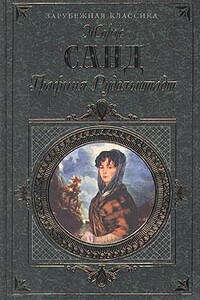Оказавшись после возвращения с острова Бурбон в довольно стесненных обстоятельствах, я вынужден был искать службу и вскоре получил незначительную должность в почтовом ведомстве. Меня послали в провинциальную глушь, в маленький городок; называть его я не стану по причинам, которые вы легко поймете.
В небольшом городе появление нового лица — целое событие, и хотя моя должность была достаточно скромна, но в течение нескольких дней моя особа служила предметом всеобщего любопытства, равно как и наиболее частой темой разговоров, уступая только живому тюленю и двум удавам, которых только что привезли и показывали на рыночной площади.
Но я стал жертвой собственной нелепой нерадивости, она-то и вынудила меня затвориться от людей на всю первую неделю моей жизни здесь. Я был еще очень молод, и если прежде в серьезных соображениях касательно костюма, а также умения его носить мне была свойственна небрежность, то здесь эта небрежность начала до крайности терзать меня.
После пребывания в течение нескольких лет в колониях мой туалет отстал от движения века и уже являл зрелище позорного застоя. Шляпа боливар, бакенбарды как у Бергами и плащ как у Кироги вышли из моды не одно пятилетие тому назад, и мой обветшалый наряд выглядел столь нелепо, столь дико, что я уже готов был за него краснеть.
Конечно, если б я оказался в сельском уединении, если б появился никому не ведомым в чужом городе, если б меня увлекал вихрь скитальческой жизни, то долгое время я бы и не подозревал, сколь горестно мое положение. Лишь одна необдуманная прогулка по городскому валу прискорбно просветила меня на сей счет: и десяти шагов я не сделал, выйдя из дома, как уже получил оказавшееся для меня спасительным предупреждение о нелепости моего костюма. Сперва хорошенькая гризетка метнула в меня иронический взгляд, сказав своей подружке: «Гляди-ка, гляди-ка, и завязал же себе галстук этот господин». Затем какой-то ремесленник, — подозреваю, что был он шапочником, — встал, уперши кулаки в пояс своего кожаного фартука, и заявил ухмыляясь: «Ежели вы, сударь, пожелаете одолжить мне свою шляпу, я сделаю по ней такую же, надену ее, наряжусь бифштексом и пойду на карнавал». А потом элегантная дама прощебетала, высунувшись в окно: «Какая жалость, что жилет так выцвел, а бородка плохо выбрита». В довершение всего некий местный остряк процедил сквозь зубы: «Вероятно, отец этого господина — человек с большим весом. Об этом можно судить по его просторному костюму». Короче говоря, я должен был немедля вернуться домой, утешая себя тем, что еще счастливо отделался от приставаний целой дюжины сорванцов в лохмотьях, которые, задрав головы, орали вокруг меня: «Долой агличана, долой милорда, вышвырнем иностранца вон!»
Глубоко огорченный этой неудачей, я решил закрыться дома до той поры, пока портной, обшивавший высший свет департамента, не приготовит мне полного костюма по самой последней моде. Почтенный мастер трудился не щадя сил и сшил для меня кокетливый костюм в обтяжку, такой, что я чуть не умер от отчаяния, увидав себя стиснутым в нем до последней возможности, уподобившимся тем карикатурам на парижских фатов и невообразимых, разглядывая которые, мы покатывались с хохоту всего год назад на острове Маврикия.
Невозможно было заставить себя поверить, что в этом наряде я не выгляжу во сто раз смешнее, чем в прежнем, который только что сбросил; и тут я растерялся, вспомнив, что торжественно обещал своей квартирной хозяйке (жене самого дородного нотариуса в округе) повести ее на бал и пригласить на первую (а может быть, и единственную) кадриль, ибо ее очарование давало ей право на это рассчитывать.
Растерянный, смущенный, чуть ли не дрожащий, я решил спуститься и просить эту уважаемую особу искренно и без утайки рассказать мне, что она думает о моей наружности. Я взял свечу, отважился дойти до ее двери и замер там, услыхав раздававшиеся в этом святилище громкие и пронзительные голоса и взрывы непринужденного смеха. Я заключил, что по меньшей мере там находились пять или шесть барышень из нашего городка.
Я едва не повернул обратно, потому что выставлять себя в одеянии, по моим понятиям, более чем сомнительном, на суд столь жестокого ареопага было таким геройством, решиться на которое могли бы немногие молодые люди, окажись они на моем месте.
Желание все же превозмогло страх. Я спросил самого себя — напрасно разве читал я Кондильяка и Локка, — и, уверенно растворив дверь, вошел туда, являя всем видом своим отчаянную решимость. Я бывал свидетелем ужасающих событий и могу об этом говорить, я преодолевал моря и видывал бури, я спасался на Яве от когтей тигра, а в бухтах Туниса — от зубов крокодила, лицом к лицу встречал я зловещие жерла пиратских судов, я грыз флотские галеты, которые разрывали мне десны, я целовал дочь Тиморского властелина… Мало ли что было! Клянусь вам, все это ровно ничего не стоило по сравнению с эффектом моего появления в этих апартаментах, и больше никогда в моей жизни мне не удавалось добыть столь заманчивый плод философского воспитания.
Барышни, рассевшись в кружок, ждали, когда жена нотариуса закончит вплетать в свои черные волосы легкую гирлянду пионов; эти милые, непосредственные девицы вели между собой веселый разговор и напевали наивные песенки. Мое неожиданное появление разом прервало их пленительное веселье. Молчание распростерло совиные крылья над их светлыми головками, их глаза, устремленные на меня, выражали недоумение, неприязнь, испуг.