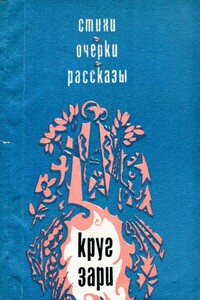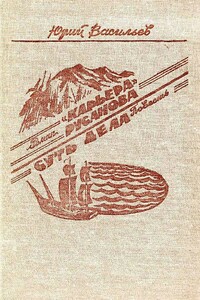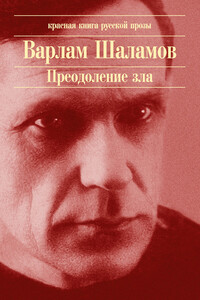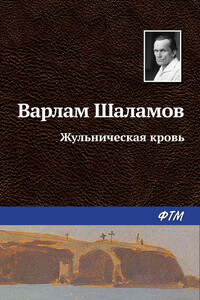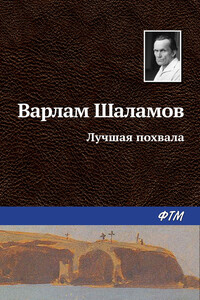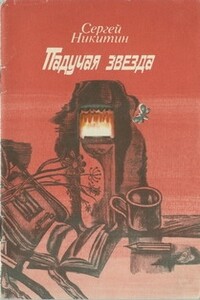Случилось мне как-то прожить несколько дней в тульском селе, в избе колхозницы Нюры Стрепетовой, пока добровольные механики со всего села помогали шоферу Коле чинить машину, на которой я ехал.
Нюре тогда было около сорока лет, и цвела она, как золотая осень, яркой, зрелой, чуть грустной красотой.
Коля — лихач за рулем и в любви, молодой, с бесшабашинкой парень — говорил про нее, судорожно вздыхая:
— Опаляющая женщина. Не то, что те болонки.
Каких «тех болонок» имел он в виду, было неизвестно; я только знал, что болонками он называл всех маленьких крашенных в блондинок женщин и относился к ним пренебрежительно.
Нюра была стройна и туга телом, с лицом румяно-смуглым, с тяжелым комлем черных, но кое-где выцветших до медной рыжины волос на затылке и взглядом каким-то медленным, обволакивающим. И чем красивее выглядела Нюра, тем в большее раздражение приводило Колю то обстоятельство, что замужем она была за мужичонкой вовсе пустяковым. Возможно, в парнях он был и хорош собой — рослый, с крупными правильными чертами лица, — но теперь от запойной жизни приопух весь, обряк, нездорово побагровел и к тому же, опохмелясь какой-то дрянью, потерял голос, — сипел со свистом и клекотом.
По своеобразной Колиной системе определения человеческой сущности он был «коптителем».
— Что это такое — коптитель? — спросил я.
— Не горит мужик, коптит только смрадно и зловонно, — объяснил Коля.
В колхозе коптитель не работал, шабашил, где придется, по печному ремеслу, а еще промышлял лепкой из гипса и раскраской кошек-копилок.
Нюра, видимо, брезговала им, не пускала пьяного в избу, и он спал в сарае на сушилах, если мог туда забраться, а нет — валился прямо у лестницы в пыль и щепной мусор. Тогда рядом с ним пристраивалась собака Стелька — серо-рыжая сука с хвостом в репьях, — и он, наваливая на нее тяжелую пьяную руку, сипел ласково;
— Ах ты, про-по-о-и-иц…
В хмельном изнеможении он был спокоен, но, когда случалось ему не допить, зверел и кидался на людей, всегда с расчетом выбирая слабого.
Однажды ночью мы с Колей были разбужены шумной возней в кухне, грохотом табуреток и сипящим свистом коптителя. Колю подкинуло, как пружиной. Я выскочил вслед за ним в кухню и увидел, что коптитель, схватив Нюру за распущенные волосы, тащит ее к входной двери, а Нюра молча, лишь тихо постанывая, чтобы, видимо, не услышали дети, старается разжать его пальцы и освободить волосы.
Мне показалось, что Коля хрястнул по руке коптителя чем-то тяжелым, — такой был хрусткий, сухой звук. Коптитель схватился за руку и грязно выругался.
— Маленько я ее, стерву, до топора не дотащил, — с трудом выдохнул он. — Быть бы ей без башки.
Почувствовав в небольшом, но жилистом, ловком Коле силу, превосходящую его дряблую массу, он отступил и, уходя, просипел:
— А вы сейчас же… к чертовой матери…
Нюра пятерней выбирала вырванные волосы.
— Ложитесь. Он теперь не придет, — устало проговорила она.
Коля заикнулся было что-то сказать, но Нюра перебила его:
— Я же в рубашке стою. Идите, ложитесь.
Мы вышли.
Утром, как обычно, я проснулся позже Коли. Из боковушки через тонкую перегородку мне было слышно, как Нюра звякала чашками и говорила:
— Нет уж, Коля, что теперь от меня осталось… А в девушках я, правда, хороша была. Только быстрое это время. Мигнуло, как огонек на ветру… Мне семнадцати еще не было, когда немцы сюда пришли, но я была здоровая, рослая и знала, не уберегусь от этих рыжих кобелей, ежели не схитрю. Ох, что я над собой только не делала! Лицо в кровь ногтями раздирала, грязью мазала, чтобы струпья пошли. За пазуху сухой навоз клала, чтоб разило за версту, в рванье со вшами ходила… От этой-то грязи, думаю, отмоюсь.
— Эх, — с досадой сказал Коля и чем-то крепко пристукнул по столу. (Это, как я узнал потом, было у него ребро ладони намято до каменной твердости.) — Подумать, для кого эдакую красотищу берегла!
— Он не всегда такой был, — опять послышался ровный голос Нюры. — Ушел на фронт, мы и погулять-то успели два-три вечерочка, а когда вернулся, сразу поженились. И жили хорошо. Вон, видишь, — четверых народила. Это ж не по неволе делается.
— Ребята у тебя славные, — сказал Коля.
— В любви нажиты, — вздохнула Нюра. — Они всегда так-то хороши выходят.
— С чего ж он у тебя пьет?
— А кто вас, мужиков, поймет, с чего вы пьете? Протрезвеет, поплачет, покается и опять — горькую. Баловство. На суде оправдывался и такую небывальщину про меня наплел, — если б не дети на мне, руки б на себя наложила.
— На каком суде? Какую небывальщину? — спросил Коля.
— Да и вспоминать-то об этом — на душе погано становится. Суд ему товарищеский был за пьянство, когда он еще в колхозе работал. Так он сказал, будто через то пьет, что я в войну с немцем путалась, офицером, который у нас стоял… Все вы тут, кричит, немецкие подстилки… Врет. Я девушкой за него пошла… Даже нецелованной…
В горнице долго молчали.
— Гнала бы, — послышался наконец глухой Колин голос.
— Эко у тебя все просто, — усмехнулась Нюра. — Гнала, а он не идет. Летом в сарае спит, а зимой приползает на крыльцо — нешто я без сердца, дам замерзнуть? Подумаю, что отец он моим, и открою.