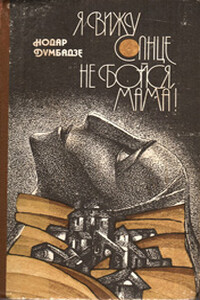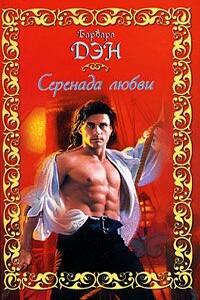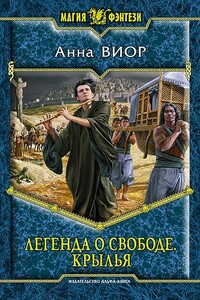1
Мне кажется, что у человека бывают как бы две биографии: первая — всего лишь рассказ о том, когда человек родился, когда окончил школу, в каком году пошел на фронт...
Вторая — тайное тайных о человеке.
Однако, как ни быть откровенным, что-то все же остается за пределом памяти, за пределом нашего понимания
Лишь в редкие минуты озарения приоткроется занавес, жгуче и больно сожмется сердце.
Что же это такое? Характер? Судьба? Мера радостей и печалей?
Нет. Это и есть рассказ о жизни, рассказ, с великим доверием отданный писателем своему первому другу — читателю.
* * *
Первое, что я помню, — был свет. Пять острых язычков пламени над керосиновой лампой. Она голубая, а горела золотенькая. Каждый зубчик пламени окружен коротким сияньицем.
Я стояла без башмаков на диване, я чувствовала сквозь толстые чулки прикосновение не то кожи, не то клеенки дивана.
Свет!..
И вот я протянула руку к огню и сказала: «Се-ек».
Бабушка, папина мама, удивленно повернула ко мне коричневое от старости лицо. Оно попало в сияние огня и выразило любовь.
Эта ранняя память явилась ко мне, подобно озарению, во время войны. Она воскресла в минуту как бы наивысшего душевного потрясения.
Из темноты землянки выпорхнуло пять колеблющихся язычков огня, а в их свету коричневое от старости лицо моей бабушки.
Пламя вспыхнуло — и погасло.
Там же, на фронте, я вдруг услыхала шумы одесской улицы времени самого раннего моего детства. Просыпаюсь и вместе с сознанием возвращающегося дня слышу грохот одесской мостовой. Мостовая покрыта булыжником. Ой, как громко и радостно она грохочет! Кто-то вопит, не иначе — мороженщик.
От шума и синевы звенели стекла в окне. Я хотела встать, но не могла, я вцепилась в сетку кровати.
До сих пор я люблю дальний уличный шум, он для меня как звук тишины, как звук моего беззащитного детства и ясного пробуждения.
В белый свет тундры, на фронте, вместе с грохотом мостовых, как бы врывался желтый свет одесского солнца. Сейчас пошире открою глаза, и меня зальет сиянием и теплотой.
— Чего бы вы больше всего хотели? — спросил меня как-то раз мой начальник.
— Прежде всего — как все — я хочу победы. А для себя... еще раз увидеть жаркое солнце.
...Случилось так, что в день, когда освободили нашу Одессу, в газете появилось сообщение о том, что я награждена. Газету я не успела прочесть и о награждении не имела понятия.
Все меня поздравляли.
«До чего хорошие люди! Помнят, откуда я!»
Только к обеду мне стало известно, что я получила медаль «За отвагу».
...Помнится, мир раннего детства состоял для меня из множества разных предметов: например, из качалки с продавленным сиденьем.
Рядом с качалкой — большущий фикус. (Я считала, что его толстые листки — не растение, а мебель.)
«Я» была мирозданием, пупом вселенной. Во мне жила уверенность, что весь мир притворяется. Если крепко зажмуриться, а потом побыстрее раскрыть глаза — «оно» еще не успеет начать притворяться и застынет остановившееся, смущенное... Беда лишь в том, что я не успевала достаточно быстро разлепить веки. «Оно» было много хитрее меня, всегда успевало меня обдурить.
Я не знала еще, что значит «спектакль», но в этом единении — я и мир — «Я» как будто бы была зрителем, а все остальные — вплоть до солнца, извозчика, лошади — играли свой удивительный спектакль существования.
...Далеко в моем детстве остался мир запахов, — у меня, должно быть от природы, было хорошее обоняние, которое я испортила курением. Прекраснее всего для меня был запах книжного магазина, запах типографской краски. Он кружил мне голову.
Но выросши, я не стала собирать книги. Для меня книга — не вещь, не предмет, — она живая душа, мне не нужно, чтобы она стояла на полке. Я не коллекционер книг, даже самых любимых (и не коллекционер душ).
Когда мама выходила замуж за моего папу, ее отец, мой дед, дал ей приданое. Среди маминого приданого были книги. Они привычно стояли в книжном шкафу, как зеленая декорация, никто их никогда не читал.
Сопротивление такому понятию о книге родило во мне протест против книжных полок. Книга — часть моих радостей и страданий: она не вещь.
Семья воспитывает в нас не только сходство с собой, но и страстное сопротивление: я не ценю почти ничего из того, что было ценимо моими родителями; я ценю все то, чему они цены не знали.
...А еще я помню особый запах, который стоял в квартире у другой моей бабушки — маминой мамы. Там пахло чем-то вроде прокисшего теста. Запах был стойкий. Его не могла стереть ни доброта выражения бабушкиного лица, ни то, что она меня всегда брала под свою защиту. Мама ей обо мне говорила, что у меня «зверское выражение лица и злой взгляд». А бабушка отвечала: «Неправда! Чего ты хочешь? Глаза очень даже хорошие: черные».