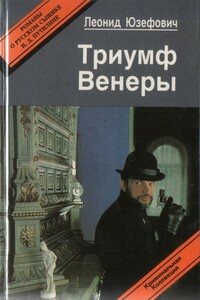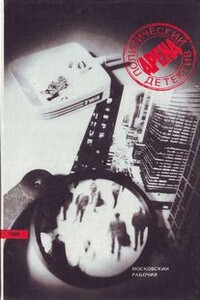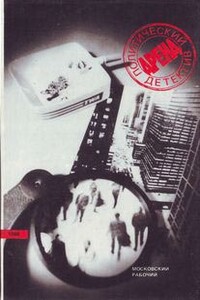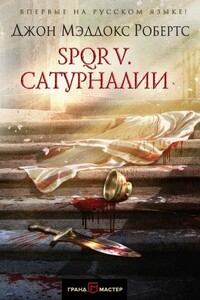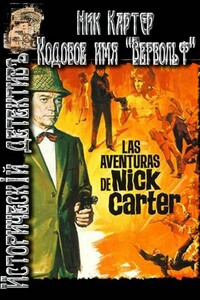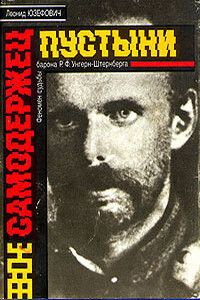Как известно, в 1893 году легендарный начальник столичной сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин вышел в отставку и поселился в Новгородской губернии, в доме с яблоневым садом на берегу Волхова. Вскоре, не устояв перед авансом, который предложил один солидный издатель, он взялся было за мемуары, недели две с энтузиазмом разрабатывал план будущих записок, придумывал названия глав и подбирал к ним эпиграфы, пока не осознал, что вряд ли сумеет самостоятельно претворить это в нечто большее. Кто-то рекомендовал ему петербургского литератора Сафронова. В письме, правда, тот амбициозно запросил половину обещанного издателем гонорара, но при личной встрече согласился на треть, услышав, что в противном случае найдется перо подешевле. Ударили по рукам, Сафронов пошел проводить Ивана Дмитриевича на поезд. Запрашивая половину, он рассчитывал на четверть и был приятно возбужден, говорил, что постарается усреднить свой стиль, сделать его менее индивидуальным, чтобы не заслонить, хуже того — не подменить собственной личностью личность мемуариста.
Они простились на вокзале, а через два дня Сафронов с тем же поездом прибыл на берега Волхова. Здесь, в доме Ивана Дмитриевича, он прожил около месяца, записывая воспоминания хозяина. Затем предстояло обработать эти записи и подготовить книгу к печати. На титуле должно было стоять единственное имя, так что самому Сафронову этот проект никакой славы не сулил, только деньги, хотя ради них тоже стоило помучиться.
За месяц в ежедневных странствиях по жизни Ивана Дмитриевича литератор износил три карандаша, на среднем пальце образовался истекающий сукровицей волдырь. Граненый карандаш был заменен круглым, но и он казался орудием пытки. В саду собрали последние яблоки, пожелтела листва, по утрам река стала окутываться туманом, когда Сафронов, исписав несколько тетрадей, решил, что пора уезжать. Материала было достаточно, по возвращении в Петербург оставалось подвергнуть его стилистической правке, расположить все истории в хронологической последовательности, местами прописать исторический фон, добавить немного погоды и психологии.
Сафронов уже предвкушал, как сладко будет отдаться этому незатейливому труду у себя дома, в тишине, в халате, рядом с дремлющим, в кресле любимым котом и нелюбимой женой. Она, впрочем, имела мужество признать, что чем бесформеннее становится ее бюст и шире талия, тем ароматнее должен быть кофе, принесенный мужу в кабинет, и нежнее поданная к чаю булочка.
Забегая вперед, скажем, что к весне работа была закончена. Как только мемуары Ивана Дмитриевича вышли из типографии, Сафронов уничтожил все свои тетради с записями, кроме одной, сохранившейся в его архиве. История, которая в ней содержится, в книгу не вошла. Вероятно, Сафронов приберег ее на будущее как сюжет для собственного романа, но написать его так и не собрался.
Это объемистая тетрадь в зеленой коленкоровой обложке. К форзацу подклеены две странички с журнальным отзывом на книгу Ивана Дмитриевича. В тексте рецензии кто-то подчеркнул фразу: «Волшебная прялка его таланта с равным мастерством ткет обе нити, сюжетную и психологическую». Сбоку имеется помета: «Прялка не может ткать!» Чуть ниже это оспорено другим почерком: «Речь идет о волшебной прялке. Волшебная все может!»
Кое— где между страницами тетради вклеены вырезки из газеты «Азия» за 1913-1914 годы. Отсюда следует, что тогда же, спустя два десятилетия после того, как Сафронов услышал эту историю, она вновь пробудила его интерес. Почему так, становится понятно ближе к концу. Аналогично и смысл этих вклеек остается совершеннейшей загадкой, пока не доходишь до финала.
Однако сразу же замечаешь, что все они связаны с Монголией и представляют собой избранные места из воспоминаний русского офицера Солодовникова, который в 1913 году в качестве военного инструктора находился при монгольской повстанческой армии. Полутора годами раньше Внешняя Монголия (Халха) провозгласила свою независимость от Пекина, и Солодовников должен был помочь монголам сформировать боеспособные части для борьбы с китайцами.
На первый взгляд его заметки рассеяны по тетради без всякой связи с тем, что в ней написано. Например, рассказ Сафронова о его знакомстве с Иваном Дмитриевичем перебивается следующим отрывком:
«Памятуя о Чингисхане, я полагал, что, как народ крайне воинственный, монголы будут рваться в бой, мне же придется сдерживать их пыл, пока они не овладеют новейшим европейским оружием и тактикой современной войны. Очень скоро я убедился, что мои о них представления так же далеки от реальности, как нынешние монголы от своих предков. Все они теперь буддисты, и маразм пасифизма, привитого им „желтой религией“, сделался настоящим проклятием этого бедного племени. На маневрах целые эскадроны уходили с позиций и отправлялись в соседний монастырь „на моление“, пулеметы кропили хорзой[1], но не смазывали, состоявшие при штабе бригады ламы постоянно вмешивались в мои распоряжения, причем выказывали такое религиозное усердие в вопросах дислокации наших частей или использования артиллерии, что я начинал подозревать в них китайских шпионов. Там, где хранились патроны, всегда почему-то оказывалось много воды, а в пулеметных кожухах ее не было вовсе. Среди быков, приставленных возить пушки, регулярно обнаруживалась чума, их угоняли на прививку, после чего они пропадали бесследно вместе с погонщиками. Дезертиров было множество, но воров еще больше, все друг у друга что-то воровали и одновременно обменивались подарками. Все были полны добрых намерений, и никто ничего не делал. Важнейшие документы неделями лежали у моих монгольских начальников и хорошо, если не пропадали вообще, зато гадатели-изрухайчины были необыкновенно деятельны. Планы боевых операций поверялись расположением звезд на небе и узором трещин на брошенной в огонь бараньей лопатке, а приказ, помеченный каким-нибудь числом, которое эти кривоногие пифии признавали несчастливым, не исполнялся с чистой совестью, поскольку само это число просто-напросто изымалось из календаря. Непосредственно за вторым, к примеру, днем третьей Луны шел четвертый, за ним — два пятых. В каждом месяце до трети всех чисел объявлялись несуществующими, а среда, четверг и пятница могли значиться под одной и той же датой, о чем я узнавал в субботу утром.