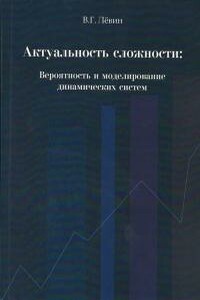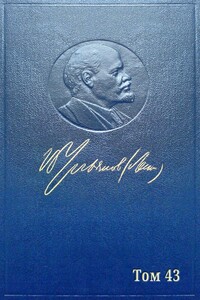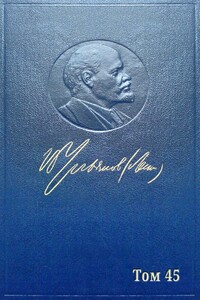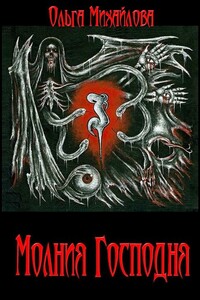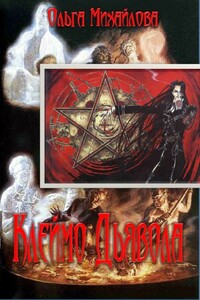1984 год.
«Nox erat et celo fulgebat luna…», пробормотал он еле слышно себе под нос. «Была ночь, и в небе светила луна…» Сигарета чуть подрагивала в опущенной через перила руке Адриана, и лунный диск, казалось, растворялся в её сероватом дыму. «Nox erat et celo fulgebat luna…» Парфианову всегда нравилась латынь, ее благородный лаконизм и смысловая наполненность, и в этой простой фразе ему тоже невесть отчего мерещилось что-то сакральное, почти колдовское.
Отец Адриана удивился, когда сын выбрал филологический факультет. Однако Парфианов просто предпочёл то, что было по душе, и уже четвёртый год окунался в стихию чужих замыслов и писаний, отдавался мелодике вечных строк, вслушивался в чеканную метрику мёртвых языков. Его всегда и везде видели с книгой, и «Книжник» — прозвище, Бог весть кем уроненное, прилипло к нему быстро и навсегда.
Сломанная раскладушка, на которой лежал Книжник, перегораживала выход на балкон их комнаты в общаге, и справа от него была ночь. По левую сторону чернел провал двери в комнату. Изредка Адриан поворачивал туда голову, и в лунном свете видел, как две блондинки, Ванда Керес и Юленька Левитина, известная среди сокурсников как Жюли, спаривались с его дружками. Ванда — с длинноносым Веней Шелонским и комсомольским богом Вовочкой Вершининым, физиками-математиками, а Жюли — с Мишелем Полторацким и Казей Лаанеоргом, будущими биологами. Стоны были столь громки, что он, потянувшись с болезненной гримасой на лице, прикрыл дверь на балкон.
Книжник ненавидел Турмалину, как окрестили студенты общагу, — по наименованию улицы, где она находилась. Пятиэтажное здание за десятилетия провонялось несусветными запахами гнилых полов, прелой извёстки, годами не ремонтировавшейся канализации и горелого масла с кухонь. В душевых вода растекалась по стенам из заржавленных кранов, бачки туалетов при смывании издавали утробные звуки, в которых Книжник улавливал финальные аккорды вагнеровского «Полёта валькирий».
Адриан неоднократно подумывал перебраться на частную квартиру, но не хотел обременять отца, а поселиться с отцом мешало понимание, что тому всего сорок три и ночевал отец не один. В итоге приходилось, скрипя зубами, терпеть еженедельный бордель в комнате. Нет, Парфианов, в общем-то, не был ханжой, и блудные забавы сожителей в первые годы учёбы его даже забавляли. Особенно веселила Ванда, студентка истфака из Эстонии, категорически решившая выйти замуж девственницей, и потому соглашавшаяся только на контакты, не лишавшие её невинности. Парфианов отдавал должное её твёрдым принципам, даже уважал их, чуть, правда, посмеиваясь. Терпел он и общество белокурой Жюли, будущей журналистки. Не столь привередливая, как Керес, она отказывала дружкам только когда приходила пора «розовых камелий». Однако за минувшие годы всё происходящее перестало забавлять Книжника, потаскушка-девственница Ванда и шлюха Жюли, подружки Шелонского и Полторацкого, осточертели.
На этот раз он был вуайером поневоле: его дружок Алёшка Насонов уехал к родителям, в его комнате этажом ниже отмечали чью-то днюху, деваться на ночь глядя было некуда, и Парфианов предпочёл уединиться на балконе.
Но вскоре Книжник забыл обо всём. Ночь бодрила, вспомнилась уайльдовская «Саломея», «белые ножки царевны, обутые в серебряные сандалии…», он бормотал себе под нос что-то из Гейне, ему уже не мешали звуки за балконной дверью. Подхваченный мелодичным пением цикад, лунным светом, арбузным запахом свежей травы, оставшейся после вечернего ливня, он вытащил из кармана блокнот и огрызком карандаша стал торопливо царапать приходящие на ум строки. Они были полубредовыми, но поправить он мог и после, главное, успеть записать.
«Всего на тон темней, и тише на полтона!
Пусть умолкнет пичуга в зарослях миртовых,
этой ночью сам я себе — Бетховен!
мрак сгустите ночной, цикаду утихомирьте!
Чешуёй золотой бежит по воде моё веселье!
Ни обуздать, ни прикрыть листком фиговым!
Я заставлю жаб танцевать тарантеллу
с нетопырями, ретивыми жиголо!
И, колыхаясь на травах, в ручьях искрясь и барахтаясь,
эхом горным звеня в скальных бездонных трещинах —
То козлоногим сатиром, то смиренным монахом, —
кем не привижусь — все тебе примерещилось…»
В эту минуту Жюли закричала так, что Адриан, вздрогнув, выронил карандаш, и тот, мгновенно отскочив от его ботинка к отверстию между прутьями ограждений балкона, провалился в щель и несколько мгновений спустя с лёгким стуком упал на шиферную крышу подвала — четырьмя этажами ниже. Пробормотав полушёпотом несколько фраз, не делавших чести филологу, Адриан со вздохом засунул блокнот в карман и несколько минут сидел неподвижно. Потом резко поднялся и, распахнув дверь, вошёл в комнату.
Веня Шелонский, всегда выходивший из блудных игр намного раньше других и страшно из-за этого комплексовавший, моментально почуял что-то неладное. Он поспешно натянул джинсы и пуловер и, отодвинувшись в угол, настороженно наблюдал за тем, как Парфианов располагался на своей развороченной шлюхами постели с толстым фолиантом.
Вениамин давно подметил эту странность: Книжник, если хотел выразить презрение к мужчине, неизменно ронял слово «фигляр», подлинно не любя позёрства и презирая подмостки, но сам при этом отличался артистизмом поистине бесподобным. Сейчас, шестым чувством уловив, что Книжник в бешенстве, Веня напрягся. От Парфианова можно было ждать чего угодно, и Шелонскому это было известно, как никому другому.