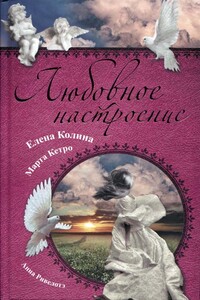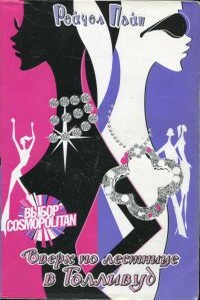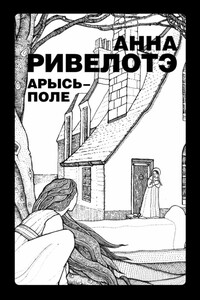Помню ли я притопленный каменный мост на голубой реке или на мангровом болоте, где с черных ветвей свисали плети мха, ветхий такелаж Летучего Голландца, севшего на вечную мель? А призрачный собор, едва виднеющийся под слоистой амальгамой тумана, сочащийся печальным внутренним светом? Он рос из воды и терялся в небе, и в той части его, что была под водой, огромные скаты вплывали в неф сквозь выбитые розетки. Там, внутри, высились песчаные заносы, под которыми равно покойно спали остовы рыбацких лодок и церковных служек. А в той части, что была за облаками, колониями гнездились белоперые птицы и в пастях химер цвели маки.
Но мост, мост был теплым под босыми ногами, когда мы шли по нему, неся туфельки в руках. Я ловила такси и села в ее автомобиль, и она привезла меня к мосту. Она вела машину не глядя, потому что не спускала с меня глаз: была влюблена. Лет ей на вид было пятьдесят, гладкая башня светлых волос, тонкое усталое лицо. Она даже не спросила, как меня зовут, а я спросила, но она не ответила. Потом я шла с нею по осклизлому камню, затем но сухой утоптанной земле в деревянную школу без крыши. Там она и жила, в школе, в комнате с большим окном, она хотела мне что-то дать.
Под окном в пруду, заросшем ряской, угадывались силуэты ржавых механизмов, гусеницы, ковши, стрелы и зубчатые колеса. Помню ли я синеву, и голубизну, и золото непередаваемого того дня или утра? Присутствие, дыхание, сырую тоскливую свежесть? У нее в комнате книжные полки были бы до потолка, если бы там был потолок, — книги в великом и пестром множестве. Она нашла нужную, большую тетрадь в картонном переплете, протянула мне с улыбкой, но тут нас спугнул школьный звонок. Ученики вылетели из классных залов, будто визгливые нетопыри, на ультразвуке, брея кромками крыльев. Воздух вскрылся, извернулся, и готово, я больше никогда ее не видела.
Конечно, я все это помню. Я лежала потом осторожно, как стеклянная чаша, всклянь полная душистым летучим эфиром, и от восторга дышать было невмоготу. Вот что я об этом думала: Жизнь — это Книга Блаженств. Одни читают ее глубоко и вдумчиво, другие быстро и жадно, третьи по диагонали, а кто-то вовсе грамоты не знает. Нам неведомо, кто ее пишет для нас, кто предназначает ее нам, безликим, спящим в коконе небытия, кто готовит нам волшебный, уму непостижимый дар.
И вот, соблазнившись тайной властью, я задумала поведать о Матильде. Темно, и путано, и прекрасно.
Да, утром, проснувшись, я уже была близко знакома с Матильдой. Вся ее жизнь была у меня как на ладони, и мне нужно было только материализовать ее. Нужно было придать Матильде какие-то узнаваемые черты, вытащить из небытия ее родителей и возлюбленных, вылепить ее историю из хлебного мякиша моего подсознания, сделать зримой и осязаемой. Все эти славные черточки, все эти тонкие шрамики от острых карибских ракушек — ведь детские ранки так быстро заживают в соленой воде. Эти белые от солнца русалочьи космы, которые потом — я знаю — она закрасит стойкой краской цвета «сияющий каштан», чтобы наконец перестать быть блондинкой.
Я была беременна повествованием о Матильде и, как любая женщина, только что узнавшая о своей беременности, выдумывала своему ребенку будущее, несмотря на то, что пока он поместился бы и в чайной ложке.
Вижу, как Матильда стоит у зеркала в сияющей ванной комнате отеля и держит в узких, чуть костлявых пальцах стакан с жидкостью цвета мореного дуба. Это ром, черный ром с колой, без льда. Она смотрит на свое отражение в зеркале и думает, что вот эта морщинка между бровями, припухшие скулы, слабнущие веки — теперь так будет всегда, и даже неделя воздержания от алкоголя ничего не изменит. В каком-то смысле ром, уносящий Матильду на Кубу, — это и есть ее остров, ее прибежище. Там, на Кубе, она не выпила ни глотка, была слитком мала.
Матильда любит серебро, но не черненое и не филигрань. Серебро должно быть светлым и массивным: большое кольцо странной текучей формы и цепи с подвесками на обоих запястьях. Она не знает, как некоторых людей раздражает звук, с которым цепи то и дело ударяются о стол, когда она сидит в кафе. Не знает, что людям приходят смутные мысли об оковах, о том, что Матильда носит свои серебряные кандалы в наказание за что-то, известное ей одной. Может, она хотела бы связать себе руки из предосторожности, чтобы чего-то не допустить. Может, она хотела бы, чтобы ее руки оставались безвольно опущенными под тяжестью цепей — в знак смирения, которого ей всегда недоставало.
Я сижу в гостях у доктора Агнии. Доктор Агния — потомственный практикующий психиатр. В комнате Агнии мне всегда немного не по себе; это потому, что дом выстроен наспех, плоскости пола и потолка не параллельны. Здесь меня преследует ощущение искаженной перспективы, будто я нахожусь внутри картины, косо висящей на стене. Комната заставлена советской мебелью грубой работы; тут и там разложены и развешаны сувениры: лакированные морские звезды, раковины, поделки из кокосовой скорлупы. На самом деле, конечно, я здесь не для того, чтобы говорить о Кубе, этот разговор я хотела отложить, выбрать день и прийти во всеоружии, со специально купленным новеньким цифровым диктофоном, с записанными в блокнот вопросами. Но мысль о Матильде щекочет меня изнутри.