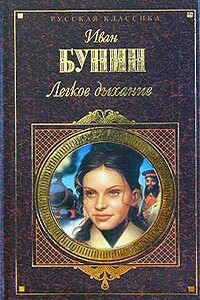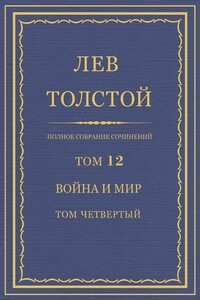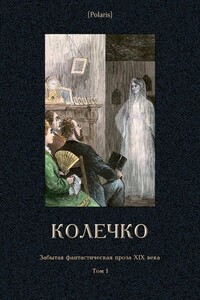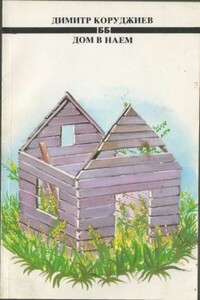Кн. А. И. Урусову
I
Поезд остановился на пять минут. Станция – Блискавки. Пассажиров мало, никто издалека не едет. Эта ветвь железной дороги проведена сюда, чтоб вывозить хлеб, да и то зимою, а не летом. Летом кондукторы пробегают по пустым вагонам, и хорошо, если в вагоне найдётся два-три человека. Это лица знакомые, давным-давно примелькавшиеся кондукторам: еврей, помещик, поп, богатый казак, гимназист, гимназистка. Начальник станции сидит на балкончике в рубашке и режется в карты. Иногда из вагона становой или кто-нибудь перекинется с ним приятельским словом. Если бы в числе пассажиров был при этом посторонний человек, приезжий, как выражаются здесь кондуктора, то его поразило бы, что начальник станции напоминает своим голосом тромбон. Зычный, оглушительный голос! Но уж из местных пассажиров никто не удивляется ни голосу начальника станции, ни его бесцеремонности. Вместо пяти минут, положенных по расписанию, поезда в Блискавках простаивают нередко полчаса и час. Тоже никого это не удивляет, и все знают, что железнодорожные власти поджидают пассажиров из ближайших деревень. Дорога маленькая, всего сорок семь вёрст, пять сажень и три вершка с осьмою, и надо же компании получать что-нибудь с неё в летние месяцы.
Таким образом, и теперь поезд, остановившийся на пять минут, растянул этот срок почти на час, и пассажиры, как ни великодушно относились они к интересам компании, стали роптать.
Но обер-кондуктор начал «усовещивать» пассажиров, т. е. уверять их, что поезд сейчас тронется. Через десять минут он объявил, что поезд тронется сию секунду; через пять минут – что поезд уже трогается. Наконец, раздался сигнальный свисток, но поезд не трогался.
Тем временем по просёлочной дороге, усаженной роскошными каролинскими тополями и ровной как доска, катила коляска; серебряные гайки её колёс издали сверкали на солнце, а пыль белым облаком стлалась за нею. Начальник станции, сидя на балкончике против бледного, проигравшегося офицера, сейчас же узнал, чей это экипаж, и, распечатав новую колоду карт, крикнул на платформу помощнику:
– Граф Парпура!
Имя это успокоило пассажиров: стало ясно, почему так долго стоит поезд, и явилась незыблемая уверенность, что теперь стоять уж, действительно, недолго.
Граф Парпура выскочил из коляски; проведя платком по чёрным висячим усам, он снисходительно ответил на поклоны помощника и кондукторов и сел в вагон первого класса. Станция, с резными коньками, с игрушечным балкончиком, с белыми стаканчиками телеграфных столбов, с платформами, стала уплывать от пассажиров; машина начала пыхтеть скорее и скорее, и, наконец, побежали по обеим сторонам зелёные луга, озёра, хутора, деревья, залитые жгучим солнцем; мерно застучали колёса вагонов.
Сидя в бархатном купе, граф сохранял некоторое время то особое выражение – отчасти тупое, отчасти горделивое – которое свойственно богатым людям, не расходующим умственной энергии на мелкие житейские заботы. Он был здоров, не стар, душа его ничем не волновалась. Он не служил; ни чиновник, ни земец, он просто барин…
Было жарко. Граф снял панаму, и в чёрных волосах его можно было бы заметить седину. Глаза у него ещё молодые, тёмные, с влажным блеском; но вокруг глаз уже легли лёгкие коричневые кольца приближающейся старости. Нос прямой, толстоватый, а крупный подбородок вельможно двоился. Невысокая шея уходила в богатырские плечи, хоть ростом граф и не богатырь. Большие руки были затянуты в свежие перчатки. Вместо цепочки, вилась по летнему полотняному жилету тесёмка, запонки были костяные, бельё дорогое.
Он смотрел в окно; стекло опущено, и ветер, всегда сопровождающий поезд, дул графу в лицо. Рожь и пшеница в этом году замечательные. Но когда они бывают плохие? В их благодатных местах неурожаи невозможная вещь; разве уж град выбьет! Земля удобрения не требует. Мужик богат. «Да и паны здесь – не бедный народ, – думает граф, примечая на горизонте усадьбы местных помещиков, неизбежно украшенные пирамидальными тополями. – У каждого дом – полная чаша как в старое доброе время; в глуши, где жизнь дёшева, проживают по десяти тысяч»…
Он вынул гаванскую сигару и закурил.
В соседнем купе кто-то вздохнул. То был странный вздох. Парпура сдвинул брови, а когда вздох повторился, почувствовал безотчётную тревогу и стал прислушиваться…
Палисандровая дверца отворилась, и в купе вошла хорошенькая барышня, худенькая, белокурая, в странном, полуукраинском, полурусском наряде. В длинной золотистой косе её пестрели разноцветные ленты, грудь рубашки была расшита тончайшими узорами, в руке девушка держала букетик цветов, а на шее у неё чернелась бархатная лента с брильянтовым крестиком. Лента выделяла молочную белизну кожи. Лицо было неправильное: серо-голубые глаза далеко расставлены, тёмные красивые брови, прямой нос, тупой на конце, приметный пушок над верхней губой капризного, очаровательного рта, и на щеке родинка. Она улыбнулась, когда вошла; можно было подумать: «Довольно развязная молодая особа». Но вопросительный взгляд Парпуры смутил её, девушка покраснела.
– Прошу вас, граф, – сказала она, доставая папироску, – нет ли…