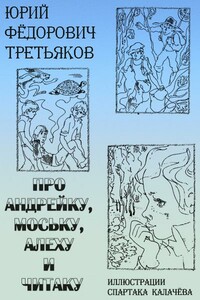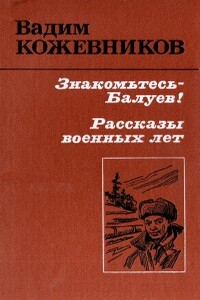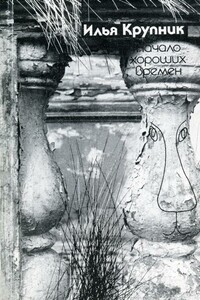По улице Бюсси от бульвара Сен-Жермен мелкой трусцой быстро-быстро двигалась кучка голых людей. Все разрисованы зеленой краской. Кругом орала, выла, от радости свистала: «Фьють, фьють!» — улюлюкала толпа.
Боже ты мой, где я?
Бледные, сутулые, худые, груди трясутся. И пронеслись.
Дождь пошел, слабый, — морось. Я иду медленно под дождем.
За углом пусто. Начинает, похоже, сыпать с дождем снег, тротуары и мостовая превращаются в белое поле, покрываются посверкивающим льдом.
Бабы в пуховых платках, с самодельными рюкзаками, выдыхают морозный пар, пялятся на меня во все глаза: они гурьбой будут топать в Хлуднево, я один по лыжне через поле пешком в Лужки.
Я поднимаю руку — не бойтесь, бабушки! — и иду, проваливаясь, по старой лыжне.
Края буханок ржаного хлеба в сумке утыкались резко в бок, а где-то близко ссорились друг с другом птицы, хотя не было никаких птиц, — поле белое, серые кусты торчат изо льда.
Я приподнимаю темные очки, и тут же утихают птички: они сидели в кустах рядами, друг над другом, грелись.
Впереди уже поблескивали солнечные, толстые от снега крыши, но дунул ветер, и я натянул намордник — ветрозащитную самодельную маску: после операции глазной требовалось беречь лицо.
Полосы снега, эти косые опилки в ветре, залепляют мою светлую куртку, черную сумку на ремне с запасом жратвы, а когда вошел наконец в деревню, ветер стих.
Избы стояли такие же нетронутые, в два порядка, заваленные снегом. По склонам, за избами, поднимались на голых корнях сосны, как на скрюченных пальцах. У них стволы были желтые с черным, и — тишина, только далекий-далекий вороний крик.
Запах старого дерева от заборов проходил и сквозь чистый снег. Из-за заборов навстречу двигались колючие грушевые ветки, у некоторых даже сохранялись листья, они как глиняные, по краям пупырчатый снег, а в середине аккуратные снежные точки. И я тронул точку пальцем.
За углом из сугроба пялилась в меня красная машина с распахнутой дверцей — видно, въехала сюда от холмов.
«К бабе Фае, — пожалел я себя, — ээ-эх. Не уезжай, баба Фая, не оставляй одного…»
Но из калитки выбежала, согнувшись, незнакомая фигура в дубленой куртке, сапогах, с платком на шее и, что-то нацелив на меня, крикнула, как собаке:
— Стоять!
В кулаке зажат черный баллончик с газом, левой рукой фигура заткнула платком нос и рот.
— Оставь его, слышь! Не бойся. — За открытой дверцей машины высунулось вялое лицо бабы Фаи. — Это квартирант мой, лыжник.
Человек опустил баллончик, все еще не доверяя, и отнял медленно от носа платок. Это тоже была женщина, но не старая. С закушенными губами.
— Верно, — я подтвердил. — Тут я лыжник. — И, сообразив, отчего пугаются, стянул намордник, темные очки.
— А может, возьмем его? — предлагает баба Фая, и на ее желтоватом лице становятся вроде больше остренькие глаза, баба Фая только казалась вялой.
— Это куда?! Нет-нет… — запротестовал я тут же, отпихиваясь от них намордником.
— Поедем, милый. Ми-лый! — увещевает меня баба Фая. — Поможешь нам, давай!
И уже покорно, обняв свою сумку с консервами и хлебом, я сидел позади них, а впереди мелкоклетчатый платок бабы Фаи и белый с розами Ани-водителя, сбоку проносились тяжелые, в снегу, лапы елей да такие четкие, бледно-зеленые от лишайника стволы берез.
Потом в окне пошли поляны, одна, другая, стояли кое-где брошенные машины носами навстречу, будто бежали оттуда, с той стороны.
— Остановись, — сказала Фая, стиснув Анино плечо, и Аня притормозила.
Очень близко торчали две машины в затылок. Одна со снятым, начисто выдранным мотором, точно безголовая, вторая без колес, только ржавчина под ней на снегу.
— Погляди, милый, — обернулась баба Фая. — Что написано?
Я приотворил дверцу и прищурился.
На боку машины расплывшейся зеленой краской было намалевано криво: «Малая грузинская дорога». И дальше, красной краской: «Савчук».
Я сижу на скамье. Набережная. Надо мной листья каштана.
Я смотрю вверх, зажмуриваю под осенним солнцем больные глаза: мимо меня идут, я слышу, разговаривают деликатно, негромко, словно нежно чирикают, тихие французы.
Бог ты мой, я всегда бежал. Но к чему?
Когда я сбежал первый раз из дома в нашем маленьком городке, мне стукнуло, по-моему, пять лет. Я отстал от мальчишек, а вечер уже, и везде погас свет, все знали: начались маневры. Наконец вышел куда-то на берег по гремящей гальке к Черному морю. Кругом лежали мертвые дельфины, я помню этот запах, а с моря шел далекий гул орудийной пальбы.
— Направо, — кивнула баба Фая, когда прочел ей надпись на раскуроченной машине. — Отсюда направо, — пояснила она Ане, чтобы та сворачивала на проселок.
Теперь деревья снова рядами пошли за стеклом, они стали тоньше, и между стволами замелькало шоссе, очень светлое, широкое.
«Чего ж мы тут ковыляем?..» — хотел я спросить, но расступились деревья, и я понял, что это река.
Впереди по снегу, поднимая руки, рванули люди, выскочившие из леса, и Аня, поколебавшись, начала тормозить, вытаскивая из кармана куртки баллончик с газом.
— Документы, — сказал, когда затих мотор, первый с автоматом, зажатым под локтем, и пристукнул варежкой по нашему красному капоту. — Выходи! Патруль.