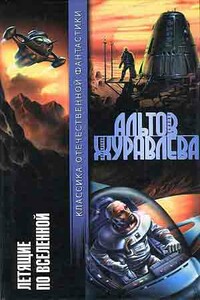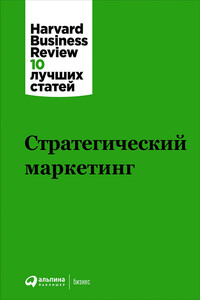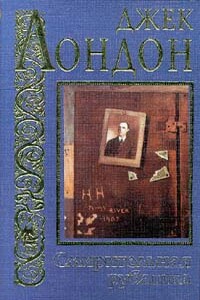Я ничуть не отступлю от истины, если скажу, что я стал социалистом примерно таким же путем, каким язычники-тевтоны стали христианами, социализм в меня вколотили. Во времена моего обращения я не только не стремился к социализму, но даже противился ему. Я был очень молод и наивен, в достаточной мере невежествен и от всего сердца слагал гимны сильной личности, хотя никогда и не слышал о так называемом «индивидуализме».
Я слагал гимны силе потому, что я сам был силен. Иными словами, у меня было отличное здоровье и крепкие мускулы. И не удивительно — ведь раннее детство я провел на ранчо в Калифорнии, мальчиком продавал газеты на улицах западного города с прекрасным климатом, а в юности дышал озоном бухты Сан-Франциско и Тихого океана. Я любил жизнь на открытом воздухе, под открытым небом я работал, причем брался за самую тяжелую работу. Не обученный никакому ремеслу, переходя от одной случайной работы к другой, я бодро взирал на мир и считал, что все в нем чудесно, все до конца. Повторяю, я был полон оптимизма, ибо у меня было здоровье и сила; я не ведал ни болезней, ни слабости, ни один хозяин не отверг бы меня, сочтя непригодным; во всякое время я мог найти себе дело: сгребать уголь, плавать на корабле матросом, приняться за любой физический труд.
И вот потому-то, в радостном упоении молодостью, умея постоять за себя и в труде и в драке, я был неудержимым индивидуалистом. И это естественно: ведь я был победителем. А посему — справедливо или несправедливо — жизнь я называл игрой, игрой, достойной мужчины. Для меня быть человеком значило быть мужчиной, мужчиной с большой буквы. Идти навстречу приключениям, как мужчина, сражаться, как мужчина, работать, как мужчина (хотя бы за плату подростка), — вот что увлекало меня, вот что владело всем моим сердцем. И, вглядываясь в туманные дали беспредельного будущего, я собирался продолжать все ту же, как я именовал ее, мужскую игру, — странствовать по жизни во всеоружии неистощимого здоровья и неслабеющих мускулов, застрахованным от всяких бед. Да, будущее рисовалось мне беспредельным. Я представлял себе, что так и стану без конца рыскать по свету «белокурой бестией» Ницше и одерживать победы, упиваясь своей силой, своим превосходством.
Что касается неудачников, больных, хилых, старых, калек, то, признаться, я мало думал о них; я лишь смутно ощущал, что, не случись с ними беды, каждый из них при желании был бы не хуже меня и работал бы с таким же успехом. Несчастный случай? Но это уж судьба, а слово судьба я тоже писал с большой буквы: от судьбы не уйдешь. Под Ватерлоо судьба надсмеялась над Наполеоном, однако это не умаляло моего желания стать новым Наполеоном. Да к тому же оптимизм железного желудка, способного переваривать гвозди, оптимизм несокрушимого здоровья, только крепнувшего от невзгод, и помыслить мне не дозволял о том, что с моей драгоценной особой может стрястись какая-то беда.
Надеюсь, я достаточно ясно дал понять, как я гордился тем, что принадлежу к числу особо избранных и щедро одаренных натур. Благородство труда — вот что пленяло меня больше всего на свете. Еще не читая ни Карлейля, ни Киплинга, я начертал собственное евангелие труда, перед которым меркло их евангелие. Труд — это все. Труд — это и оправдание и спасение. Вам не понять того чувства гордости, какое испытывал я после тяжелого дня работы, когда дело спорилось у меня в руках. Теперь, оглядываясь назад, я и сам не понимаю этого чувства. Я был наиболее преданным из всех наемных рабов, каких когда-либо эксплуатировали капиталисты. Лениться или увиливать от работы на человека, который мне платит, я считал грехом — грехом, во-первых, по отношению к себе и, во-вторых, по отношению к хозяину. Это было, как мне казалось, почти столь же тяжким преступлением, как измена, и столь же позорным.
Короче говоря, мой жизнерадостный индивидуализм был в плену у ортодоксальной буржуазной морали. Я читал буржуазные газеты, слушал буржуазных проповедников и восторженно аплодировал трескучим фразам буржуазных политических деятелей. Не сомневаюсь, что, если бы обстоятельства не направили мою жизнь по другому руслу, я попал бы в ряды профессиональных штрейкбрехеров и какой-нибудь особо активный член профсоюза раскроил бы мне череп дубинкой и переломал руки, навсегда оставив беспомощным калекой.
Как раз в то время я возвратился из семимесячного плавания матросом, мне только что минуло восемнадцать лет и я принял решение пойти бродяжить. С запада, где люди в цене и где работа сама ищет человека, я то на крыше вагона, то на тормозах добрался до перенаселенных рабочих центров Востока, где люди — что пыль под колесами, где все высуня язык мечутся в поисках работы. Это новое странствие в духе «белокурой бестии» заставило меня взглянуть на жизнь с другой, совершенно новой точки зрения. Я уже не был пролетарием, я, по излюбленному выражению социологов, опустился «на дно», и я был потрясен, узнав те пути, которыми люди сюда попадают.
Я встретил здесь самых разнообразных людей, многие из них были в прошлом такими же молодцами, как я, такими же «белокурыми бестиями», этих матросов, солдат, рабочих смял, искалечил, лишил человеческого облика тяжелый труд и вечно подстерегающее несчастье, а хозяева бросили их, как старых кляч, на произвол судьбы. Вместе с ними я обивал чужие пороги, дрожал от стужи в товарных вагонах и городских парках. И я слушал их рассказы: свою жизнь они начинали не хуже меня, желудки и мускулы у них были когда-то такие же крепкие, а то и покрепче, чем у меня, однако они заканчивали свои дни здесь, перед моими глазами, на человеческой свалке, на дне социальной пропасти.