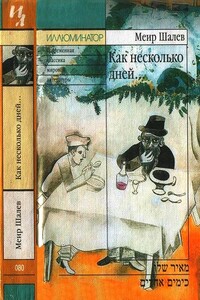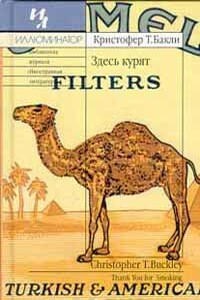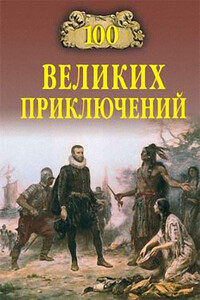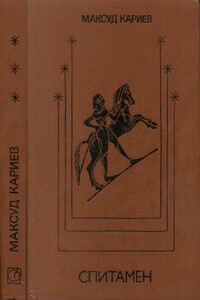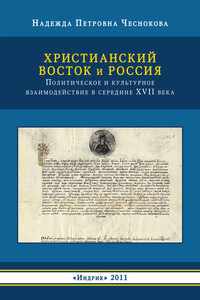В теплые дни от стен моего дома поднимается слабый запах молока. Стены давно уже затерты и покрыты штукатуркой, и земля под плитками пола тоже плотно утрамбована, но слабый запах молока все равно сочится из мельчайших пор и трещин, упрямый и вкрадчивый, как испарина забытой любви.
Когда-то здесь был коровник. Жилище жеребца, ослицы и нескольких дойных коров. Большие деревянные ворота были в нем, перехваченные по всей ширине железным засовом, бетонные кормушки, бычья упряжь, хомуты, стойла, доильные клети, молочные бидоны.
И жила в том коровнике женщина — работала там, и спала там, и видела там сны, и плакала во сне. И там же, на мешках из-под корма, родила себе сына.
Голуби важно расхаживали по гребню крыши, а в углах под стропилами трудились ласточки, склеивая свои гнезда из комочков глины и грязи, и непрестанное трепетанье их крыльев было таким упоительным, что я слышу его и по сей день, — оно поднимается из колодцев моей памяти и размягчает мое лицо, разглаживая борозды, прорезанные возрастом и гневом.
По утрам солнце вычерчивало на стенах квадраты окон и золотило танцующие в воздухе пылинки. Роса сгущалась в крышках бидонов, и по кучам соломы юркими серыми молниями проносились полевые мыши.
Ослица, — пересказывала мне мать воспоминания, которые хотела сохранить во мне, — была своевольная и очень себе на уме, она лягалась даже во сне, а когда ты, Зейде, забирался к ней на спину, она тут же мчалась к выходу, нагибалась и протискивалась под засовом, и если ты не успевал спрыгнуть, Зейделе, майн кинд[2], железная полоса сваливала тебя на землю. А еще эта ослица умела воровать ячмень у лошади, хохотать во весь голос и стучать копытом в дверь, требуя конфету.
И могучий эвкалипт рос там во дворе, широко раскинув над ним вечно шелестящую душистую крону. То ли кто неведомый когда-то посадил его здесь, то ли невесть какой ветер занес сюда его семя. Куда громадней и старше годами всех своих собратьев из ближней эвкалиптовой рощи, высился он здесь и ждал в одиночестве задолго до основания деревни. Я не раз забирался на его вершину, потому что там гнездились вороны, а меня уже тогда интересовали повадки ворон.
Сейчас моя мать давно уже умерла, и то могучее дерево срублено, и тот коровник стал моим домом, и те прежние вороны давно сменились другими, а те тоже обратились во прах, и новые вылупились из яиц им на смену. Но несмотря на все это, те, былые вороны, и те рассказы, и тот коровник, и тот эвкалипт — все они заякорены в моей памяти, все они врезаны в нее навсегда.
Дерево было метров двадцати в высоту, вороны гнездились у самой его вершины, а в развилке нижних ветвей еще можно было разглядеть остатки «тарзаньей хижины», сооруженной когда-то ребятишками, которые забирались сюда и прятались здесь задолго до моего рождения.
На старых аэрофотоснимках британских пилотов и в рассказах деревенских стариков этот эвкалипт виден еще отчетливо и резко, но сегодня о нем напоминает лишь чудовищный пень с выжженной на нем, точно дата смерти человека, датой кончины дерева: 10 февраля 1950 года. В тот день Моше Рабинович — человек, во дворе которого я вырос и в коровнике которого живу, человек, который дал мне свою фамилию и завещал свое хозяйство, — вернулся с похорон моей матери, наточил большой топор и предал проклятое дерево смертной казни.
Три дня подряд рубил он этот эвкалипт.
Снова и снова взлетал топор и опускался — снова и снова. Человек шел по кругу, и врубался со всех сторон, и со стоном поднимал топор, и опускал — с хаканьем и стоном.
Невысокого роста он, Моше Рабинович, но плотный и широкий, с толстыми короткими руками. За силу и выносливость, даже под старость, в деревне называют его Быком, и вот уже третье поколение детей играет с ним в «страшного медведя»: он загребает в свою широкую ладонь сразу три тонкие детские ладошки, а дети, крича и хохоча, пытаются вырваться из его тисков.
Разлетались в стороны щепки и надсадные стоны, капали пот и слезы, взметались и танцевали вокруг снежные хлопья, и хоть у нас в деревне чуть не о каждом воспоминании идут бесконечные споры, но об этой страшной мести никто не спорит, и даже малые дети знают о ней во всех подробностях:
Дюжину полотенец перевел Рабинович, вытирая лицо и затылок.
Восемь топорищ сломал он и сменил.
Двадцать четыре литра воды и шесть кувшинов чая он выпил.
Каждые полчаса он заново затачивал топор на точильном круге и правил лезвие стальным напильником.
Девять буханок хлеба с колбасой он за это время умял и целый ящик апельсинов.
Семнадцать раз ложился он на снег и шестнадцать раз поднимался и начинал рубить снова. И все это время все тридцать два его зуба были стиснуты, и десять пальцев плотно сцеплены друг с другом, и плачущее дыхание стлалось туманом в холодном воздухе, пока не раздался сильный, скрежещущий треск и послышались негромкие вздохи стоявших вокруг людей, похожие на тот шумок, что поднимается в Народном доме, когда гаснет свет, только громче и тревожней.