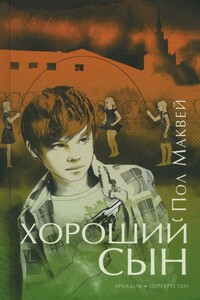П орой эта война заставляла штабс-капитана Лампе вспоминать цветные картонные вкладки в шоколад: “Кругосветное путешествие Ани и Вани”.
Будто бы треть мира только и ждала срока, чтобы ринуться перемеши-ваться, убивать и гибнуть в хаосе русской смуты. Корейцы у большевиков, таинственно-жестокие, кромсающие после боя ножами лица убитым врагам; здесь – китайский отряд, почти механические солдаты, способные равнодушно умирать в назначенном месте. Еще – неведомо где набранные Корниловым разноцветные персы, еще – текинцы личной охраны генерала; командование соседней ротой принимал недавно знакомый Лампе еще по австрийскому фронту штабс-капитан Чичуа – грузинский князь. Чехи, румыны, казаки любых мастей – с ноября семнадцатого при неизменном заднике стылой, заснеженной степи все они прошли перед Лампе словно страницы этнографического труда.
Но нукеры, с которыми пришлось столкнуться сегодня, даже привычного Лампе заставили испытать удивление, граничащее с ужасом. Когда все закончилось, он вернулся, чтобы рассмотреть трупы. Низкорослые, с обмотанными цветным тряпьем бритыми головами и грубо кованными, загнутыми на концах саблями. Огнестрельного оружия не было. Лампе сказал про себя: хазары!
Он думал: никто из нас не знает главного – чем притягивают большевики на свою сторону подобных этим. Что сумели их главари (представлявшиеся ему некими смутными полутенями-полусилуэтами) передать по долгой цепи вниз, чтобы поднять и отправить под пули за свою власть и свои идеи тех, кому не могло быть дела ни до этих идей, ни до перипетий слишком далекой власти? Ведь не совместишь такую первобытность с миром общественных утопий и политической борьбы. Что это – солидарность дикости? Или притяжение обожествленного насилия? Не исключено, впрочем, что попросту платят золотом.
Один из них, безнадежно раненный в живот, согнулся на красном снегу и скалил зубы в сторону штабс-капитана. От злобы или от боли – на этом ли-це не понять. Лампе подумал: не выстрелить ли? – но не решился, ибо неизвестно было отношение этого дикаря к смерти, и оттого вышло бы действие, по-бесовски лишенное сущности: ни жестокость, ни избавление.
В станицу, уже занятую юнкерами, входили группами, без строя. На углу, у церковки, человек двадцать пленных испуганно жались к стене. Голос подпоручика Закревского взлетел и сорвался, не осилив фразы:
– Смотрите, господа! Тулупы… Их мать!
– Пан! Пан! – лепетали пленные. – Не стрелял! Работать!
Сопровождавший их молоденький юнкер пытался объяснять:
– Это австрийцы. Еще с Юго-Западного. Работали здесь.
– Какого черта! Тулупы и валенки! Полроты можно одеть!
Австрийцев окружили. Оттеснив юнкера, Закревский сдернул с плеча винтовку.
– Господа, помогите мне! У кого негодная обувь…
Еще несколько винтовок опустилось вниз.
– Раздевайтесь, все! – приказал подпоручик и повел стволом. – Ну, живее!
– Но как же, – запротестовал юнкер. – Приказано в штаб. Восемь верст.
– Ничего, доберутся. Если уж сюда добрались…
Почуяв смертный ветер, немчины теснее прижимались друг к другу. Тот, что был выше других, быстро тараторил что-то и умоляюще заламывал руки. Выглядело театрально, даже смешно. Закревский тряхнул его несколько раз за ворот, выпрастывая из тулупа. Остальные, уразумев, что от них требуется, торопливо снимали свои и протягивали вперед, улыбаясь с робкой на-деждой.
– Валенки, валенки давай тоже! – крикнули из толпы.
Где-то за их головами юнкер узрел подмогу.
– Господин полковник! Здесь…
…Теперь, вытянувшись в чистенькой вдовьей хате на широкой, пост-ланной мехом лавке, Лампе в подробностях вспоминал сцену и тем, как держал себя, остался в результате доволен. Привычка оглядываться – тем более задним числом – на то, как смотришься со стороны, есть качество школярское, но Лампе словно играл с собой, получая удовольствие от самого осознания этого школярства, ибо научился за три года фронта пониманию, что даже игра в нечто довоенное становится здесь ценнее многого, может быть – всего…
Полковник врезался на лошади в толпу корниловцев – черно-красные и серебряные погоны раздались в стороны.
– Прекратить! Подпоручик, прекратите немедленно!
Штабной полковник, артиллерист. Лампе и фамилии его не знал. Белый конь. И адъютант в наличии, гарцует чуть позади.
– Штабс-капитан! Извольте приказать своим людям…
Лампе опустил глаза. Сапоги у полковника сияюще-новенькие, навер-няка с мехом внутри. У Закревского хотя и целые (многие завидуют), но летние, тонкие. Обе ступни обморожены под Чалтырью. Но об этом, само собой, артиллерийский полковник знать не обязан.
Еще на прошлой, такой обыкновенной, войне, где врага определяла все-го лишь речь, Лампе научился оставаться равнодушным к подобного рода несоответствиям. Не то чтобы смирился, не считал уже, что нравственного оправдания такому положению вещей нет и быть не может, – просто понял, что причины его слишком ясны, чтобы заставлять мысль постоянно на них спотыкаться, и обуздал эмоции грубой рациональностью, к нравственности не имеющей отношения. Но сегодня, оттого, быть может, что в глубине души он никак не мог простить себе пережитого в недавнем бою страха, злость прорвалась, выплеснулась за барьеры, которые обычно он ставил ей так умело, и искала выхода.