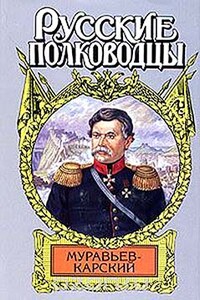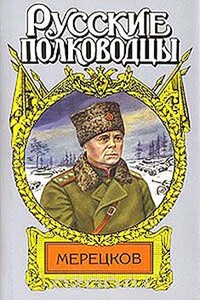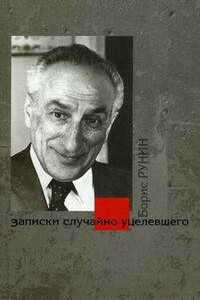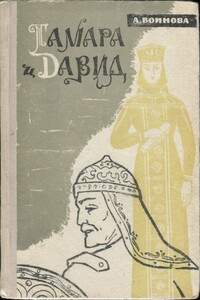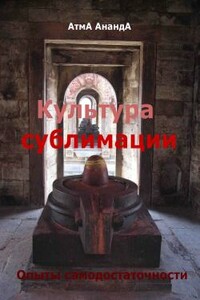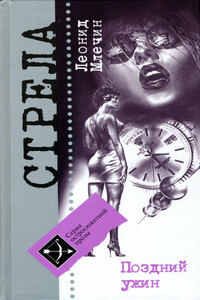Мальчик появился на свет ранней весной, в ту пору, на которую в его родных местах обычно приходится самый разгар сева. Его отец, немолодой уже дехканин, в тот день славно потрудился с рассвета и уже распряг волов, собираясь домой, когда увидел, что со стороны соления к нему стремительно скачет всадник. Крестьянин пригляделся и узнал соседского мальчишку, паренька лет двенадцати, оседлавшего гнедого трехлетка. Еще издали маленький всадник закричал:
— Суюнчи! Дядя, суюнчи!..
Дехканин выпрямился. Он знал, какого рода новость ему должны принести, и крикнул в ответ:
— Кто? Сын или дочь? Сын?!
— Сы-ы-ын! — Мальчишка остановил жеребенка и добавил восторженно: — Парень! Да еще какой парень! В колыбель не влезает! Выглядит словно трехлетний! Настоящий батур!
— Сын! — засмеялся переполненный счастьем отец-дехканин. Его громкий радостный возглас пронесся над огромным полем, а потом его подхватили стремительные волны реки Каш, огибавшей здесь гору Аврал, и унесли в дальнюю даль. Казалось, что сама родная земля с ее горами, водами, могучими деревьями радуется рождению нового своего сына.
— Так, говоришь, в колыбели не помещается? — переспросил юного вестника счастливый отец, гордо распрямляя уже тронутые сединой усы.
— Точно! — подтвердил мальчишка и добавил: — Поехали. Увидите — глазам не поверите.
— Поверю. — Дехканин приподнял паренька в седле и поцеловал его в лоб. — А возвращайся ты один. Я в честь того, что сын мой родился богатырем, посею еще хлеба…
Дехканин снова запряг волов. Вспахал новую борозду, посеял зерно… Он трудился на поле, пока не зажглись в небе первые звезды.
Хлеб на этой борозде уродился небывалый. А мальчик, отведавший этого хлеба, рос, рос и на самом деле вырос богатырем, батуром.
…Из трех молодых всадников один был уйгуром, второй казахом, а третий монголом. Все трое могучи, так полны здоровьем и силой, что трудно от них оторвать восхищенный взгляд. А их скакуны — под стать всадникам — словно не могут поделить дорогу, несутся, стремясь опередить друг друга, разбрызгивая пену с губ.
Подъехав к реке, юноши остановили коней и спешились. Уставшие после долгого пути кони, почувствовав себя свободными, пофыркивали, перебирая ногами.
— Достань-ка трубку, наджи[1], покурим перед расставанием! — улыбаясь, сказал уйгур. Это был высокий и широкогрудый парень с крутым лбом и горящими черными глазами, в которых пламенели мощь и энергия.
— Хоп, друг. — Монгол вынул из кармана кисет, набил трубку и, раскурив ее, затянулся два-три раза, а потом протянул товарищу.
— Ох и нрав у этой реки… Не каждый ее одолеет, — сказал казах, разглядывая бурные волны. Казалось, что река от полноводья не вмещается в своем русле и потому выплескивается из берегов.
— А это мы посмотрим, кто кого…
— Да ладно ты, расхвастался… Не знаешь разве поговорки: вода — немая беда!
— Я хорошо знаю нрав реки Каш, вот гляди! — решительно сказал уйгур и, передав другу поводья, стал раздеваться, обнажая могучее тело.
— Мост ведь недалеко, можно переехать через него, — попробовали было отговорить его друзья, но он уже разделся, свернул одежду и, снова взяв повод, повел коня к берегу.
— Через два дня ждите меня на Аралтопе, — крикнул он товарищам, бросаясь в кипящую бурунами воду.
— О кудай! — воззвал к аллаху казах.
— Бурхун, бурхун! — обратился к своему богу монгол.
Сначала конь погрузился так, что была видна лишь верхняя часть его головы с торчащими ушами, все остальное скрыла вода. Потом морда коня приподнялась над водой и стало хорошо слышно хрипение скакуна, спорящего со стихией. Джигит же плыл словно по тихому озеру, он прислонился к крупу коня, не замочив плеча, а свободная его рука широкими взмахами рассекала воду. Два друга, затаив дыхание, следили с берега за пловцом. Наконец джигит с конем показались на другом берегу, и тогда казах и монгол разом вздохнули:
— Уф!.. Прошел, разбойник!..
Они переглянулись: «Поехали?» — и тоже уселись на коней…
Джигит, одевшись и вскочив в седло, направился по узкой тропинке, проложенной вдоль берега, но его остановил приветливый оклик:
— Счастливой дороги, сынок!
Подняв голову, парень увидел на склоне холма старика с седой бородой, который, видимо, уже давно наблюдал за ним.
— Ассалам алейкум! — ответил всадник и хотел спешиться с коня, но старик остановил его:
— Не надо, спасибо, сынок, за уважение, не слезай с коня, а если не торопишься, поднимись ко мне.
Не решившись отказать аксакалу, джигит поднялся на холм, спрыгнул с коня и протянул руки:
— Есть какое-нибудь дело ко мне, чон дада[2]?
— Да нет, дела нет, сынок, но, видно, сам аллах привел тебя ко мне. Садись поближе!
И снова джигит не посмел отказать старику, он стреножил коня и уселся рядом с аксакалом. А старик между тем успел вытащить из хурджуна тыквянку и, налив из нее в пиалу чаю, протянул гостю:
— Попей, ты, наверно, сильно устал: с такой рекой справиться — дело нешуточное.
— Благодарю вас, чон дада, — джигит принял пиалу и, не отрываясь, выпил ее до дна.
— Ну вот и слава аллаху, — удовлетворенно кивнул старик и погладил седую бороду. Потом показал на двух всадников, поднимающихся в гору на противоположном берегу: