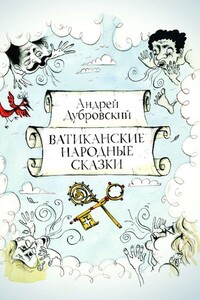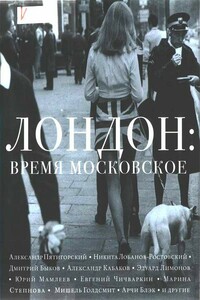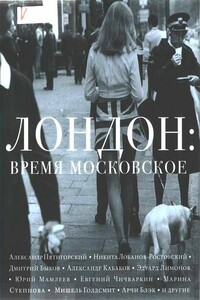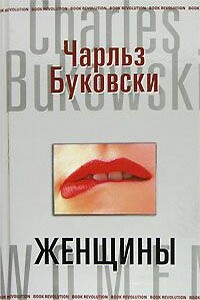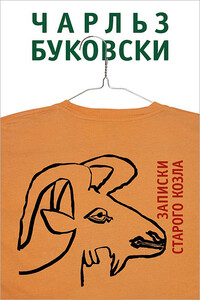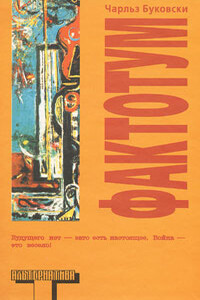у Дюка была дочка, ее назвали Лалой, и ей исполнилось четыре, она была его первым ребенком, а иметь детей он всегда боялся, ведь дети когда-нибудь могли бы его убить, но теперь он сошел с ума, и она его восхищала, она знала все, о чем думал Дюк, от нее к нему, от него к ней протянулась ниточка.
Дюк с Лалой ходили по магазину, они непрерывно болтали, безостановочно, говорили они обо всем, она рассказывала ему обо всем, что знала, а знала она очень много, инстинктивно, а Дюк многого не знал, но то, что мог, ей рассказывал, и не зря. им было очень хорошо вдвоем.
— что это? — спросила она.
— это кокос.
— а внутри что?
— молоко и жвачка.
— а зачем они там?
— просто им хорошо там, и жвачке, и молоку, им хорошо внутри этой скорлупы, они говорят себе: «до чего же нам здесь хорошо!»
— почему же им там хорошо?
— там всем было бы хорошо, и мне тоже.
— нет, тебе вряд ли. изнутри, оттуда, ты не мог бы водить машину, ты не мог бы видеть меня изнутри, изнутри ты не мог бы есть яичницу с грудинкой.
— яичница с грудинкой — это еще не все.
— а что — все?
— не знаю, может, нутро солнца, только замороженное.
— НУТРО СОЛНЦА?.. ЗАМОРОЖЕННОЕ?
— ага.
— а каким будет нутро солнца, если его заморозить?
— ну, солнце считается огненным шаром, ученые вряд ли со мной согласятся, но, по-моему, оно будет выглядеть примерно так.
Дюк взял с полки плод авокадо.
— здорово!
— ага, вот это и есть авокадо: замороженное солнце, мы едим солнце, а потом ходим, и нам тепло.
— а в том пиве, что ты пьешь, тоже есть солнце?
— конечно.
— а во мне солнце есть?
— больше, чем в ком-либо еще.
— а внутри тебя солнце, по-моему, БОЛЬШОЕ-ПРЕБОЛЬШОЕ!
— спасибо, любовь моя.
они еще походили и сделали все покупки. Дюк ничего не выбирал. Лала наполняла корзину всем, чего ей хотелось, попадалось и кое-что несъедобное: воздушные шары, цветные карандаши, игрушечный пистолет, космонавт с парашютом, который раскрывался у него за спиной, если зашвырнуть его в небо, космонавт просто классный.
кассирша Лале не понравилась, она смерила кассиршу весьма серьезным неодобрительным взглядом, бедная женщина: все лицо изрыто и опустошено — она была ходячим фильмом ужасов и сама об этом даже не догадывалась.
— здравствуй, милочка, — сказала кассирша.
Лала не ответила. Дюк на этом и не настаивал.
они заплатили и направились к машине.
— они берут наши деньги, — сказала Лала.
— да.
— а потом ты должен ночью ходить на работу и зарабатывать новые деньги, я не люблю, когда ты ночью уходишь, я хочу играть в маму, я буду мамой, а ты сыном.
— годится, я уже сын. ну, что скажешь, мама?
— годится, сынок, а ты машину водить умеешь?
— попробую.
потом они сели в машину, поехали, какой-то сукин сын задел Дюков дроссель, а когда они поворачивали налево, попытался их протаранить.
— сынок, почему люди хотят ударить нас своими машинами?
— это потому, что они несчастливы, мама, а несчастным людям нравится портить вещи.
— а счастливые люди бывают?
— есть много людей, которые притворяются счастливыми.
— зачем?
— просто им стыдно и страшно, но не хватает духу в этом признаться.
— а тебе страшно?
— у меня хватает духу признаться в этом только тебе — я так адски напуган, мама, что каждую минуту боюсь умереть.
— может, тебе нужна твоя бутылка, сынок?
— нужна, мама, но давай потерпим до дома.
они поехали дальше, на Норманди свернули направо, когда сворачиваете направо, им вас труднее ударить.
— ночью тебе опять на работу, сынок?
— да.
— почему ты работаешь по ночам?
— ночью темнее, люди меня не видят.
— почему ты не хочешь, чтобы люди тебя видели?
— если увидят, меня могут схватить и посадить в тюрьму.
— что такое тюрьма?
— всё — тюрьма.
— я — не тюрьма.
они поставили машину и внесли в дом продукты.
— мама! — сказала Лала. — мы привезли продукты! замороженные солнца, космонавтов, все-все-все!
мама (они ее называли «Мэг») — мама сказала:
— отлично, потом Дюку:
— черт побери, жаль, что сегодня тебе нужно идти, у меня нехорошее предчувствие, не уходи, Дюк.
— это у тебя-то предчувствие? голубушка моя, у меня это предчувствие каждый раз. без него никогда не обходится, я должен идти, иначе нам крышка, малышка все подряд побросала в корзину, от икры до мясных консервов.
— боже мой, ты что, не можешь присмотреть за ребенком?
— я хочу, чтобы она была счастлива.
— она не будет счастлива, если ты угодишь в каталажку.
— слушай, Мэг, при моей профессии приходится учитывать и такую возможность, никуда не денешься, и не о чем тут говорить, я ведь уже оттянул один срок, и мне еще повезло куда больше, чем многим.
— а может, заняться честным трудом?
— у штамповочного пресса, детка, стоять не подарок, к тому же честного труда не бывает, все равно дело кончается смертью, а я уже ступил на собственную дорожку — я, можно сказать, дантист, удаляю обществу зубы, больше я ничего не умею, уже слишком поздно, а ты знаешь, как относятся к тем, кто сидел, знаешь, как с ними поступают, я тебе уже говорил, я…
— да знаю я, что ты говорил, но…
— но, но, но-о, но-о-о-о! — сказал Дюк. — дай мне договорить, черт тебя подери!
— договаривай.
— эти хуесосы-промышленники, что живут в Беверли-Хиллз и Малибу, паразитируют на рабах, эти парни специализируются на «перевоспитании» преступников, бывших заключенных, оттого и кажется, будто эта дерьмовая система условно-досрочного освобождения пахнет розами, это же надувательство, рабский труд, в советах по надзору за условно освобожденными это знают, они это знают, знаем и мы. экономим деньги для штата, работаем на чужого дядю, дерьмо, всё — дерьмо, всё. они заставляют тебя трудиться втрое больше обычного работяги, а сами обкрадывают всех и каждого в рамках закона — продают всякий хлам в десять, а то и в двадцать раз дороже фактической стоимости, но все в рамках закона, их закона.