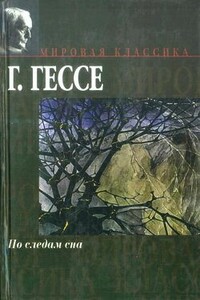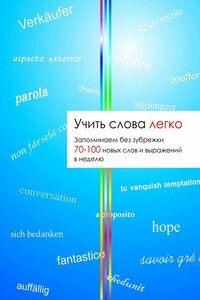Это было рождение вечера. Небо уже стало блекло-серым, как стекло окна в зимний день, утратило глубину и цвет. Оно уже выглядело не как огромный купол, а как тусклый дисплей, на котором нет ничего кроме серой пелены статических помех. На такое небо можно смотреть часами — пока не появится резь в глазах и пока окончательно не растает, полускрытый горизонтом, огненный мазок заходящего солнца.
Красивое небо, еще не обожженное закатом и не затопленное ночью — безбрежное внутреннее море, вечно спокойное, безмятежное, бесконечное. Звезд еще нет, но, если присмотреться, видна усеявшая небо серебряная пыльца, легкая, на которую, кажется, можно подуть — и она снегопадом посыплется вниз, укрывая землю и море ровным призрачным свечением.
В такое время лучше всего устроиться на узком карнизе, свесив ноги вниз, в пустоту, и чтоб рядом была бутылка не старого еще вина, и чтоб в руке дымилась сигарета и чтоб до рассвета можно было сидеть, протыкая низкое ночное небо дымными копьями табака, думая под мерное ворчание холодных и сердитых волн о том, о чем раньше не было времени толком вспомнить.
Не хватало только луны. Чтоб ее уютный шар висел над водой и стелилась от него мерцающая тропа, ведущая прямо в небо. Бесконечная дорога, вечный путь. На который хочется встать и идти по нему, не оглядываясь и уж тем более не оборачиваясь. Потому что когда идешь в таком золотом свечении, оборачиваться и не захочется. Жаль, у этой планеты нет ни одной, даже самой маленькой луны.
Я сидел на карнизе в тот момент, когда тревожно запищал терминал. Писк этот был неприятен, тонкий и вибрирующий, колющий острыми электрическими иголочками прямо в мозг.
Сигнал дублировался на наручный пульт, укрепленный на предплечье, но где бы я ни находился, в метре от него или на другой стороне планеты, терминал пищал все равно. Но это случалось редко.
Секунд пять я позволил себе сидеть, прикрыв глаза и делая вид, что сигнал обращен вовсе не ко мне, что это просто причудливая и фальшивая нота в оркестре весенней ночи, которая вот-вот затихнет, растворится в плеске волн. Я мог и не подходить. Терминал выполнит все сам, он куда умнее и быстрее человека, особенно в таких делах, но сигналы приходили не так уж часто.
Значит, надо заняться этим лично.
Я с сожалением выкинул сигарету, отхлебнул вина и зашел в комнату. После прохладного и свежего ночного воздуха здесь было душно, но духота эта в чем-то была даже приятной, уютной. Беспокойными разноцветными светлячками перемигивались огоньки на панелях, оранжевые, синие, белые и красные точки. Их пульсация была тревожной, нервирующей… — я позволил себе еще секунд десять думать о постороннем, устраиваясь в кресле — идущей в резонанс с человеческим биоритмом.
А потом о постороннем уже не думалось, потому что загорелся большой дисплей.
— Ну и где же ты? — спросил я у пустоты. Когда долго живешь в одиночестве, привычка говорить с несуществующими собеседниками въедается очень быстро.
Вопрос был риторическим — я уже видел его. Маленький белый огонек, незаметно для глаза плывущий по серому полю. Крохотный, как только загорающиеся звезды. Но в отличии от них его курс был проложен не гравитацией орбит или невидимыми космическими ветрами притяжения.
— Ну и кто же ты? — я даже почувствовал нечто вроде интереса, — Посмотрим на тебя, незваный гость…
У меня не было достаточно мощного телескопа, но он был и ни к чему — мои глаза находились на орбите. Четыре центнера металла, кремния, пластика и Космос знает чего еще, крутящиеся на геостационарной орбите, достижения многих лет исследований и научного прогресса, спрессованные в серебристую сферу диаметром в два с половиной метра. Самые зоркие из всех созданных искусственные глаза, замечающие каждую пылинку во всем секторе, самый быстрый электронный мозг, способный рассчитать траекторию за несколько мгновений. По нынешним меркам это уже был хлам, годный крутиться только на орбите планеты вроде моей, оборудование устарело лет на десять, но пока оно работало, менять его сочли нерациональным. В отношении обслуживающего персонала такой подход не годился — я мог и не работать. Я мог не подходить к терминалу вообще. Но я знал, что меня-то не заменят…
На экране медленно вращалось, покорное моим движениям, изображение небольшого угловатого корабля серого цвета. У меня было время рассмотреть и громоздкие сигары реверсных двигателей и обтекаемую улитку рубки.
Корабль был красив, но его красота была скорее хищной красотой осы, чем эстетичной и правильной красотой привычных моему глазу кораблей. Незваный гость ничем не походил на те белоснежные герханские фрегаты, которые я столько раз видел, у него не было плавности их линий и совершенства силуэта. Этот корабль строили не поэты, его строили воины.
На всякий случай я сделал два запроса. Бессмысленный поступок, учитывая то, что корабль опрашивался автоматически, на входе в зону видимости, но позволяющий размять пальцы. Нет, этот корабль принадлежал не Имперскому флоту.
Значит, все произойдет просто и быстро.
Как обычно.
Я закурил сигарету и вызвал панель управления орбитальных логгеров. Привычные картины заполнили экран. Графики, кадры, диаграммы. Разноцветные линии, острые лабиринты цифр, идеально ровные колонки символов. Бесконечное множество информации, совершенный и в чем-то поэтичный мир чисел в его привычной и строгой форме. Температура обшивки, скорость, курс, траектория — все было здесь, отображенное неяркими, еле светящимися символами. Люди, которые летели в этом корабле, тоже были здесь на экране, пусть и не явно — в виде цифр. Их жизни чертили кривые на моих диаграммах, их дыхание заставляло крутится стрелки на шкалах и отрезки на графиках. Завораживающая и идеальная красота математики. Их смерть тоже предстанет передо мной в виде цифр. Просто ворох чисел, которые сами по себе не красноречивее нарисованной ребенком закорючки.