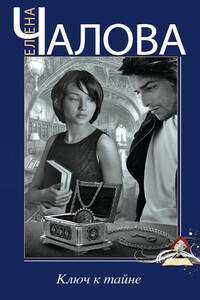(из книги «Узурпаторы»)
Какое празднество! Какое ликование! Сколько музыки и фейерверка! Раввин еврейского квартала, муж добродетельнейший и ученый, познав наконец свет истины, склонял для крещения голову пред святой водой, и весь город праздновал торжество!
В тот незабвенный день, возблагодарив Господа Спасителя Нашего, уже в лоне Его Церкви, лишь об одном — но, увы, до самых глубин души — сокрушался бывший раввин: жена его, покойная Ребекка, не изведала благодати, ниспосланной ныне ему, единородной дочери их Марте и остальным родственникам, окрещенным совместно одной церемонией при больших торжествах. В сей достославный день то был терн в его венке, затаенная печаль, равно как и сомнительная (или более того — ужасающая!) участь его предков, просвещенной линии, почитаемой им в лице деда, отца, поколений людей набожных, ученых, достойных, но не сумевших по пришествии признать Спасителя и упорствовавших на протяжении веков в давнем и отвергнутом Законе.
Новообращенный вопрошал себя, за какие заслуги дарована его душе милость, в которой отказано было им, и каким предначертанием Провидения ныне, после без малого полутора тысяч лет неистовой, упорной, пагубной гордыни, предопределено было именно ему, здесь, в этом крошечном городке кастильского плоскогорья, ему одному из всего многочисленного рода и невзирая на примерное руководство над почитаемой синагогой, сделать этот вызывающий, но благодатный шаг, ведущий к спасению. Издавна, задолго еще до объявления об обращении, посвящал он многие, нескончаемые и несчетные, часы попыткам найти в богословии разгадку подобного жребия. Но тщетно. Не раз отвергал он, упрекая себя в гордыне, единственное лестное объяснение, приходившее на ум; размышления лишь укрепили его в мысли о том, что подобная милость налагала на него обязанности и предъявляла ему требования, соответствующие ее исключительному значению, и должна была по крайней мере быть оправдана его деяниями a posteriori [ Впоследствии, в дальнейшем (лат.). ]. Отчетливо понимая, что обязан Святой Церкви более, чем любой другой христианин, он пришел к выводу, что спасение должно стать плодом многотрудного служения вере, и решил — таким был счастливый и неожиданный итог раздумий — почитать свой долг исполненным не ранее, чем здесь же, в этом самом городе, знавшем его раввином, заслужит и добьется пастырского сана и станет, тем самым, изумлением очей и примером для душ.
Став священнослужителем, он отправился ко Двору, посетил Рим, и не прошло и восьми лет, как ученость, благоразумие и неустанный труд снискали ему митру и епархию, где у епископского престола предстояло ему служить Господу до конца своих дней. На избранном пути ожидали его суровые испытания, много жестче подчас, нежели представлялось, но не отступил он; можно даже утверждать, что и на мгновение не дрогнул. Об одном из таких испытаний рассказывает настоящее повествование. Мы встретимся с епископом в самый, вероятно, страшный день в его жизни. А вот и он сам, за работой, в предутренний уже час. Он почти не ужинал: едва притронулся к еде, не отрывая взгляда от бумаг, и, отодвинув прибор на край стола, подальше от чернильницы и документов, вновь погрузился в свое занятие. На конце стола, особняком, видны теперь коврига белого хлеба с тронутой сбоку корочкой, несколько слив на блюде, остатки холодного мяса — на другом, кувшинчик с вином, неоткрытая коробочка сладостей… Было поздно, и сеньор епископ отпустил слугу, секретаря, всех остальных и сам собрал себе легкий ужин. Он любил поступать именно так и зачастую засиживался далеко за полночь, никого не беспокоя. Тем более сегодня не вынес бы он чьего-нибудь присутствия: необходимо было без помех сосредоточиться на изучении процесса. Назавтра предстояло собраться под его председательством Трибуналу Инквизиции; там, внизу, ожидали правосудия несчастные, а ему несвойственно было уклоняться от своих обязанностей: всегда, в любом процессе, изучал он все до мелочей, каждую деталь, до самых незначительных, лично следил за разбором дела, допросами и показаниями, с тем чтобы составить себе твердое представление и принять в соответствии с ним непреклонное окончательное решение. Так и ныне все материалы были уже собраны, лежали перед ним, тщательно изложенные, лист к листу, с самого начала, от доноса на обращенного Антонио Мариа Лусеро и до черновиков приговора, который предстояло вынести назавтра целой группе уличенных в тайном исповедании иудейства. Имелся здесь документ, составленный при задержании Лусеро, захваченного спящим и взятого под стражу на глазах у смятенных, подавленных близких; записаны были слова, оброненные им в ту минуту испуга, слова, надо заметить, достаточно двусмысленные по значению. Далее шли показания, полученные за несколько месяцев допросов, подчас прерываемые при пытке жалобами, стонами, вскриками и мольбами, которые записывались с той же неизменной аккуратностью. На протяжении всего столь тщательно проведенного дознания, во время несчетных и жестоких допросов, Лусеро с раздражающим упорством отрицал свою вину; отрицал, даже когда в пытке выворачивали ему члены на станке. Проклиная, стеная или умоляя, неизменно отвергал он свою вину, но епископ заметил (другой, быть может, и не обратил внимания; но как могло это укрыться от него?), что слова, вырывавшиеся у обвиняемого в минуту смущения духа, помрачения, боли и страха, содержали порой имя Божие в завываниях и угрозах, но ни единожды не взывали к Господу Нашему Иисусу Христу, к Деве или к Святым, которым такую преданность являл Лусеро ранее при других обстоятельствах…