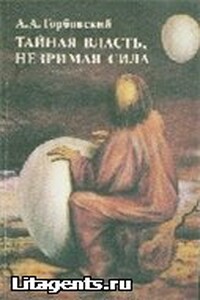Александр Горбовский
Игрища в зале, где никого нет
Анджей ничего еще не решил. Он не решил вообще, сделает ли он это. Слишком многое было неизвестно. Слишком многое было против.
Тек говорил он себе. Так повторял он.
Шел семнадцатый час с тех пор, как с амфибией, в которой была Оэра, утрачена связь. Шел семнадцатый час, как оттуда, из района Железных Скал беспрерывно звучал ее тонкий, как писк комара, радиозуммер.
Ему приходилось бывать там, в районе Железных Скал. И сейчас он представлял себе все так же ясно, как если бы это было перед его глазами. Он видел желтое марево, желтый туман, который заполнял собой пространство. И в нем, в нижних его слоях, редкие озерца, протоки из сиреневого. Иногда оно, сиреневое, медленно текло и переливалось среди более легкого желтого, но не смешивалось с ним. И стоило чему-нибудь шелохнуться, стоило потянуть ветру, как все это приходило в движение.
Где-то там, в этом прозрачном мареве, была сейчас Оэра. Была белая плоская чечевица ее амфибии.
Если включить приборы слежения, туман исчезал. На экранах оставалась только легкая дымка, размывавшая контуры отдаленных предметов. И тогда становились видны скалы. Или то, что условно можно было называть этим словом, потому что другого не было. Больше всего это напоминало гигантский шлак - нечто губчатое, нечто спекшееся с пустотами, арками и пролетами, переброшенными на сотни метров. И там, в огромных этих глубинах, в переплетениях и переходах плыл сейчас сигнал бедствия - тонкий писк радиозуммера. Многократно отраженный, он расходился волнами, то усиливался, то ослабевал. Казалось, сигнал был везде. И невозможно было найти то место, ту точку, из которой он исходил.
Вызывая в себе все эти картины, размышляя об этом, Анджей понимал втайне, что делает это только затем, чтобы не думать о другом. Чтобы не думать о главном - о решении, которое надлежало ему принять. Пока можно было еще сделать это.
Анджей был один на станции. Двое других с утра находились там, в лабиринте Железных Скал. Но он знал - им ее не найти. Это было невозможно. Почти невозможно. Единственным, кто мог бы помочь в этом, был, наверное, он сам. Но сейчас он старался не думать об этом. После всего, что произошло, что случилось с ним, отвращение к риску было слишком велико. И Анджей не был уверен, не знал, сумеет ли он одолеть это.
Бесконечные коридоры, по которым шел он, пусты. Безлюдны лестницы и переходы. Но сама эта пустота, самое безлюдье это было совсем другим, не таким, каким оно могло бы быть в иных обитаемых мирах.
Он шел, и блестящие поручни, рукоятки аварийных сигналов, иллюминаторы многократно отражали его. Они отражали его, высокого, золотоволосого, в черном форменном одеянии, отливающем серебром и ниспадавшем до самых ног. Наверное, и правда, он достоин был чего-то лучшего, чем это одеяние, эта Станция и тот мучительный выбор, перед которым он был сейчас.
Длинный коридор завершался площадкой. Дальше была только одна дверь плоский квадрат. Полосатая дверь в зал, где не было никого.
Впрочем, это еще ничего не значило, что он пришел сюда, к этой двери. Это еще ничего не значило.
Он сделал так, чтобы изображение Оэры возникло вдруг на стене. Оно было двумерным и плоским. Оно было тем, что некогда называлось "портрет". Если бы "портрет" шевелился или произносил слова, тогда бы это называлось "кино". Когда-то он интересовался историей, поэтому знал это.
Он сделал так, чтобы изображение стало объемным. Теперь Оэра была похожа, теперь она была подобна той, какой она была в жизни: эти миндалины глаз, эти черные волосы по плечам, лиловое кимоно.
Он смотрел на нее. Он попытался увидеть ее так, как если бы видел впервые. Но не смог. И тогда, перестав удерживать изображение, дал ему медленно растаять в воздухе.
"Голография". Наконец-то вспомнил он это слово. Так назывались эти изображения когда-то. "Голография". Образы, которые порождала она, были объемны, но призрачны и бесплотны. Как изображение Оэры, которое только что было здесь. Непонятно, кому нужны были они, эти призраки. Но наверное, все-таки были нужны, пока лет двести назад профессор Минц не создал своих "фантомов". Трехмерные изображения обрели плоть. Кажется, это были какие-то поля, суперполя, гиперполя, которые держали контур предмета. Теперь, если протянуть руку, рука не проходила сквозь образ, как сквозь пустоту, как сквозь призрак, а упиралась в твердь, твердь фантома. Пока шел сеанс, пока работал передатчик, изображение стены было подобно настоящей стене, и ладонь могла ощутить ее шероховатость и твердость. Изображение стула становилось подобным настоящему стулу - его можно было потрогать рукой, на него можно было сесть.
И человека... Изображение человека тоже.
Он не решился подумать об этом. Даже не в мыслях, а чем-то, что было до мыслей, он представил себе вдруг, что Оэру не нашли. Что изображение ее, ее фантом, - это все, что есть у него, все, что у него осталось. И от одного этого, от одной только попытки вообразить себе это Анджей почувствовал в сердце пустоту и холод.
И хотя тут же пришло понимание, что это не так, что Оэра есть и жива, что впереди еще целых восемь часов, чтобы найти ее, тень этого холода и пустоты, память о них остались.