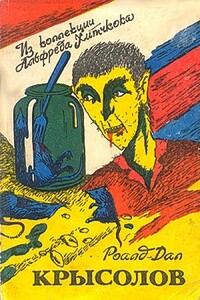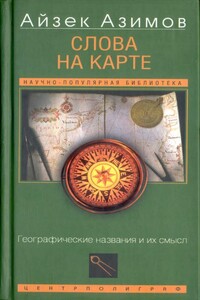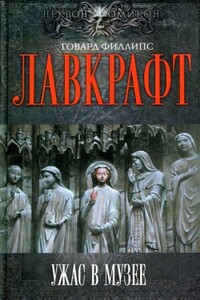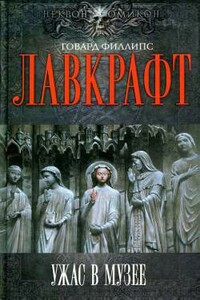По главной улице Ротбухена, которая раньше носила имя Шиллера, затем была переименована в честь императора Вильгельма, потом Гитлера, Ленина и, наконец, опять Шиллера, вприпрыжку, пританцовывая, бежит мальчик, он поет и смеется, он вне себя от счастья. Все встречные недоуменно оглядываются ему вслед: у бедняги, видимо, крыша поехала. Но это не так. Он просто не может не думать о том, как чудесна жизнь, как прекрасен мир.
Он напевает «Crazy for you» Дэвида Хассельгофа, которым восторгаются все ровесники мальчика, и слова песни говорят как раз о том, что он чувствует в данный момент: «I'm crazy for you, you’re crazy for me, you and I belong together like the sand and the sea…»[1] Танцуя и напевая, он бежит по Мюритцштрассе, потом по Трептовштрассе. Дома здесь кособокие, будто вот-вот упадут, они запущенны и грязны, в булыжной мостовой за десятилетия прибавилось выбоин, и все серое-серое… А мальчик танцует и поет: «You, you have made dream reality, I, I can feel your love surrounding me».[2] Люди здесь встречаются реже, но они разглядывают его еще более озадаченно, чем на улице Шиллера, в некоторых взглядах мелькает злоба. Чему он так радуется? «You, you can touch a rainbow in the sky, I, I will feel as though I’ve learnt to fly».[3] Теперь мальчик добрался до обширного луга с деревьями, цветами и домиками с фронтонами. Вдалеке виднеются казармы Советской Армии, до 1945 года называвшейся Красной. Это Ротбухен — гарнизонный городок в 32 километрах к северу от Берлина.
Поселок называется Сухой Дол, никто не знает, почему; одинаковые домики, похожие на танковую колонну, построены еще при Гитлере, в 1934–1938 годах, как часть программ «Выйдем из города» и «Каждому немцу — свой „фольксваген“», и теперь мальчик пританцовывая проходит через сад перед одним из таких домиков, мимо беседки со столами и стульями, поднимается на крыльцо, — «You, you will give me love I’ve never heard», — входит в кухню на первом этаже. У плиты стоит бледная озабоченная женщина, она оборачивается, прижимая руку к груди, слева, где сердце.
— Боже, Мартин, ты меня напугал. Что случилось?
Мартин швыряет школьный портфель из отвратительного ярко-голубого пластика, подбегает к встревоженной женщине, обнимает ее, уже не скрывая своего счастья, и кричит:
— Она меня поцеловала, мама! В щеку! После урока математики, во дворе, за большим каштаном! Она меня поцеловала! Я так люблю ее! И она тоже! Она сказала, что завтра пойдет со мной есть мороженое!
— Мой мальчик, — говорит мать и смахивает со лба прядь светлых волос. Ей только тридцать шесть, но выглядит она намного старше; восемнадцать месяцев назад она получила расчет — она работала на предприятии, выпускавшем коробку передач для «Трабанта». Теперь «Трабант» больше собирать не будут, предприятие ликвидировано, как и завод, на котором работал ее муж. Пока Эмиль постоянно жил с ними, все было прекрасно, но теперь он вынужден работать в Штутгарте, потому что здесь для него работы нет, а до Штутгарта 635 километров по шоссе, да еще проселком. Эмиль приезжает домой только на субботу и половину воскресенья, и она, Ольга Наврот, часто плачет, когда одна или их сыночек спит. Ее голубые глаза красивы, но в них столько печали…
— Мама!
Ее взгляд возвращается издалека, и она снова видит и слышит его, шестнадцатилетнего Мартина, ее хорошего, милого мальчика. Что бы она делала без него!
— Да, Мартин, — говорит она и изображает улыбку, — вымученную и жалкую улыбку. — Ты влюблен, это прекрасно. Я так рада!
Мартин опускает руки и испуганно отступает на шаг назад.
— Мама, почему ты плачешь?
Это ужасно — она строго-настрого запретила себе открывать грустную сторону их жизни перед мальчиком и, улыбаясь дрожащими губами, говорит:
— Нет, я не плачу.
Он проводит рукой по ее щеке.
— А это? Это не слезы?
— Нет, — говорит мама. — Я не знаю, отчего это. Может быть, от лука.
К нему сразу же возвращается радость, и он смеется.
— Я тоже всегда плачу от лука! Ах, мама, любовь — это самое прекрасное на свете, правда?
— Да, мальчик.
Ротбухен — Штутгарт, 635 километров.
— Это… Ах, это невозможно описать.
— Невозможно.
635 километров. Уже три недели — только суббота и полвоскресенья. И каждый раз, приезжая домой, он валится с ног от усталости.
— А как у тебя было с папой? Когда вы познакомились? Скажи же! Это было так же прекрасно?
— Так же, мальчик, точно так, — говорит она и кивает, и прядь волос снова падает на лоб, и она опять откидывает ее назад. Нет, не думать об этом! — Любить, да, это прекрасно. Без любви… — комок встает у нее в горле, и она сжимает пальцы в кулаки. — Без любви нельзя жить.
А с любовью? Что будет, если Эмиля уволят и в Штутгарте? Последний раз, когда он был здесь, он рассказывал: на Западе все давно уже не так, как раньше, и в их столовой он уже слышал разговоры об экономии и рационализации, сокращении рабочего времени и увольнениях. И это еще не самое страшное. И даже не то, что газ, электричество, отопление и продукты — абсолютно все — постоянно дорожают, нет, даже не это. Самое ужасное — это страх, который днем и ночью сдавливает ей горло.