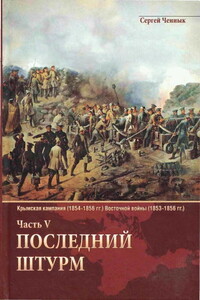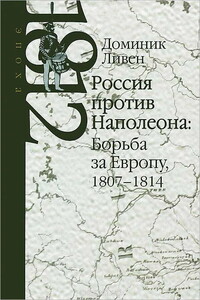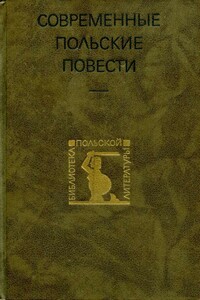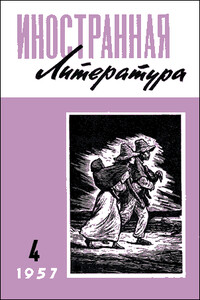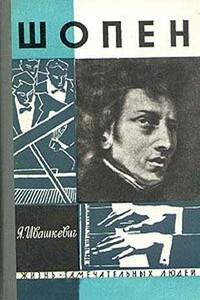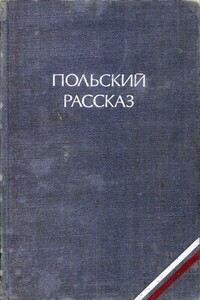Лето незаметно переходило в осень. Густая зелень кленов смыкалась тесней, готовясь к защите перед натиском ветров, но уже просвечивали в ней желтые листья, а кое-где даже целые ветки набирали янтарный цвет. На тропинках и в аллеях парка в Пустых Лонках вдруг замелькали оброненные липами листья, прозрачные и бледно-желтые, как крылья мотыльков. Днем деревья еще глядели празднично и торжественно, но с наступлением ранних сумерек в их вершинах проносился беспокойный ветерок, и ясно было, что это уже тревога осени.
Днем парк стоял покинутый, редко можно было кого-нибудь увидеть между клумбами или под тенью раскидистых ветвей, но лишь только смеркалось, в аллеях начинали появляться человеческие фигуры. Шли парами, группами, шли поодиночке. Это были беженцы из Варшавы и с запада, приютившиеся в помещичьем доме, во флигелях, в избах за воротами усадьбы. Днем они были заняты какими-то своими делами: поисками дров, приготовлением нехитрой пищи, вылазками в деревню либо в городок. Но темнело — и все спешили в парк — встретиться, поговорить.
Одни ограничивались тем, что сетовали на судьбу, другие обсуждали причины поражения, искали его виновников, сознательных или невольных. Передавали разные слухи, которые тут же обрастали всякого рода преувеличениями, рассказывали, кто и где «пропал на дорогах», сообщали фантастические подробности гибели разных государственных деятелей, которые, как оказывалось после, были целы и невредимы. Особенно невероятным казался слух о бегстве правительства и генерального штаба в Румынию. Этому уж никто не хотел верить.
Так оживал парк по вечерам, наполняясь шумом, подобным журчанию горных потоков; шаги и голоса лишенных крова людей сливались с глухим шумом густых крон, готовящихся к встрече осенних бурь.
Помещичий дом в Пустых Лонках имел два крыла в виде небольших башенок, увенчанных куполами. Крытые дранкой, купола эти поросли мхом. В правом крыле жила и умерла тетя Михася, в левом, наверху, под самым куполом, была комната Анджея, обычно битком набитая варшавскими гостями. Внизу, в первом этаже, помещалась часовня с отдельным входом из парка. В прежние времена ее отворяли только в особо торжественных случаях — для крестин или венчания. Теперь же, с тех пор как разразилась война, часовня была открыта весь день. Сюда приходили и беженцы и местные жители. После полудня начинались молебствия под предводительством энергичных и набожных старушек. По вечерам — а в шесть часов уже вечерело — часовенка наполнялась людьми; лица их, невзрачные и бледные, расплывались в колеблющемся свете свечей.
Здесь же возникла и сразу стала очень популярной молитва, полная обращений к богу, соответствующих трагическим обстоятельствам. В ней с легкостью отрекались от всего, что дала Польше независимость. Казалось, что пожилые жрицы испытывают даже удовольствие, взывая: «Удостой нас, господи, верни нам отчизну и свободу!» Эти слова напоминали им далекую молодость, когда родина еще не знала свободы. Но для молодых людей подобная мольба была непереносима. Анджей, забредший сюда в первый же день по приезде, не мог этого слышать. К огорчению набожных старушек, он демонстративно покинул святую обитель в самый разгар богослужения.
Тем не менее эти сборища в усадебной часовне не давали ему покоя. Анджей не входил в часовню — бродил поблизости, под высокими кронами знакомых с детства старых дубов и лип. Сейчас они напомнили Анджею о последней летней экскурсии. Казалось, от нее отделяют годы, а ведь в действительности прошло всего лишь несколько недель. Анджей остро переживал свое одиночество. Он избегал Геленки — с ней были связаны воспоминания об ушедших навсегда летних счастливых днях; ее, почему-то только ее, Анджей винил за это странное исчезновение отца.
Он никогда больше не сидел на крыльце дома, боялся отдаться своим неопределенным мечтаниям, теперь таким неуместным. Скрытый в тени больших деревьев, он смотрел на освещенную дверь часовенки и все никак не мог примириться с мыслью, что только это теперь и осталось людям. Анджей не мог бы выразить мысли, теснившиеся в его голове. Они были неясные и уводили его далеко от действительности. Просто-напросто он еще не отдавал себе отчета в том, что произошло, и не умел, разумеется, определить свое отношение к этому. Знал только, что не может слушать беспомощные, плаксивые слова молитвы. Нечто совсем иное занимает его. Но что именно?
Ромек решал все вопросы легко, хотя, может, и по-детски. Он собрался «в дорогу», словно не было на свете ничего легче и проще.
— Куда же ты поедешь? — спрашивал Анджей, встретившись с Ромеком возле часовни в один из теплых осенних вечеров.
— Еще не знаю, — сказал Ромек, — но здесь я ответа не найду.
— Вообще Пустые Лонки больше ни на что не дают ответа, — сказал Анджей. Но Ромек молчал, и думая, что тот не понял его, Анджей продолжал: — Когда-то я целые ночи просиживал на этом крыльце, казалось, что здесь я нахожу ответы на все свои вопросы. Это было недавно, совсем недавно, а кажется, что с тех пор прошла целая жизнь. Я был тогда ребенком.