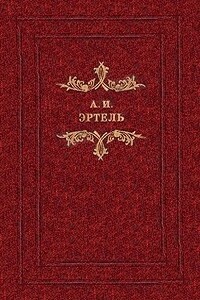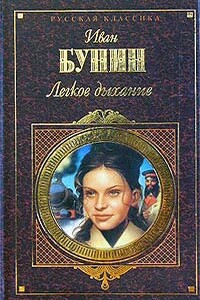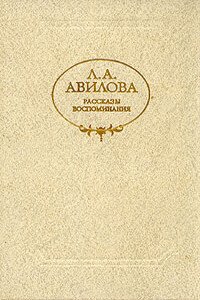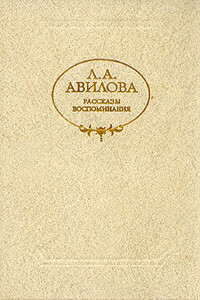Иванъ Петровичъ вышелъ на крылечко постоялаго двора, полной грудью вдохнулъ онъ чистый морозный воздухъ и глаза его невольно сожмурились отъ непривычки къ яркому солнечному блеску.
За угломъ кучеръ Ефимъ запрягалъ лошадей. Иванъ Петровичъ оглянулся и замѣтилъ, что домъ и другія сосѣднія строенія казались удивительно низкими, еще болѣе низкими оттого, что снѣгъ, зарывшій ихъ по самыя окна, придавливалъ крыши ихъ подъ своимъ ровнымъ толстымъ слоемъ.
Маленькія окна весело выглядывали въ ослѣпительное пространство и словно смѣялись привычному имъ обилію воздуха, свѣта и простора вокругъ себя и надъ собой.
— Балуй! — сказалъ Ефимъ звонкимъ знакомымъ окрикомъ и въ то же время лошадь гулко ударила копытомъ обо что-то деревянное.
— Держи, ты, чортъ! — сердито и еще болѣе звонко закричалъ Ефимъ.
Иванъ Петровичъ прислонился къ периламъ крылечка и почувствовалъ, что на душѣ его, какъ въ природѣ, стало свѣтло и тихо. Передъ нимъ, отдѣленное ослѣпительно бѣлой площадью, возвышалось зданіе станціи; вѣроятно, по ту сторону его, гдѣ пролегали рельсы, стоялъ паровозъ, потому что видно было, какъ изъ-за крыши строенія поднялся густой черный дымъ.
Этотъ дымъ и казенный видъ рѣшетки кругомъ станціоннаго двора напомнили Ивану Петровичу городъ; онъ рѣзко повернулъ голову и съ болью въ глазахъ заглядѣлся на блестяшую, безграничную даль степи.
Въ маленькой опрятной комнаткѣ постоялаго двора отдыхала мать Ивава Петровича; они заранѣе условились съѣхаться за нѣсколько станцій отъ конечной цѣли ихъ пути. Оба ѣхали домой, на свой родной степной хуторъ, она — изъ губернскаго города, куда ѣздила по дѣлу, онъ — изъ Петербурга, гдѣ служилъ и пробылъ безвыѣздно послѣдніе два года.
Дорогой мать разсказывала сыну кое-какія новости, перемѣны, планы хозяйства. Иванъ Петровичъ осыпалъ ее вопросами, одобрялъ, или осуждалъ ея дѣйствія и разсчеты. Иногда мать возражала ему, они спорили, но когда послѣ спора они взглядывали другъ на друга — въ глазахъ матери свѣтилось глубокое нѣжное чувство, сынъ опускалъ глаза и, стараясь скрыть отъ матери тяжелую тоску, которая преслѣдовала его, избѣгалъ ея взгляда.
— Одинъ? Безъ жены? — спросила его та, какъ только они встрѣтились.
— Одинъ, маменька, — коротко отвѣгилъ Иванъ Петровичъ.
Иванъ Петровичъ былъ женатъ годъ съ небольшимъ. Когда онъ встрѣтился съ Мусей въ первый разъ, онъ былъ уже почти старикъ. Безвыѣздная жизнь на хуторѣ сдѣлала его нелюдимымъ, робкимъ и застѣнчивымъ. Съ Мусей онъ не съумѣлъ сказать двухъ словъ. Она была очень молода и нарядна; хорошенькая бѣлокурая головка ея не знала серьезной работы, но Муся обладала замѣчательной способностью легко и живо вести нить разговора, перебрасываясь съ одного предмета надругой, и въ это время темные глазки ея глядѣли умно и довѣрчиво. Иванъ Петровичъ, давно не видавшій молодыхъ дѣвушекъ и, главное, никогда не любившій серьезно, привязался къ ней еще совершенно молодымъ пылкимъ чувствомъ, котораго онъ стыдился и которое старался прикрывать нѣжной отеческой заботливостью старика.
— Ой, Иванъ! — говорила ему мать, сердито и подозрительно глядя ему въ глаза, — ой, гляди, не сваляй дурака!
— Полно, маменька! — успокоивалъ онъ ее. — У меня борода сѣдая.
— То-то, сѣдая! Сѣдина-то въ бороду, а бѣсъ въ ребро.
Онъ смѣялся своимъ добродушнымъ смѣхомъ, а на душѣ у него становилось тревожно, какъ передъ большой радостью или передъ большой бѣдой.
Муся съ матерью гостили у сосѣдей и все дальше и дальше откладывали день своего отъѣзда. При встрѣчахъ съ Иваномъ Петровичемъ Муся каждый разъ слишкомъ замѣтно сдерживала свою радость, но радость эта все-таки прорывалась и находила себѣ выраженіе въ пожатіи руки, въ яркомъ, ласковомъ блескѣ глазъ, а онъ видѣлъ ее, жаждалъ ея и его молодое сердце стараго холостяка переполнялось счастьемъ и благодарностью.
— Маменька, — сказалъ однажды Иванъ Петровичъ послѣ длиннаго ряда дней молчаливаго и озабоченнаго настроенія. — Маменька! А я, знаете… рѣшилъ; хочу жениться.
Мать вязала крючкомъ; руки ея не дрогнули, она не подняла глазъ и только вѣки ея чуть-чуть покраснѣли. Иванъ Петровичъ переждалъ волненіе, которое охватило его при собственномъ сообщеніи, и заговорилъ опять:
— Такъ, вотъ… Какъ же, маменька?
Она отвѣтила очень спокойно:
— Что же? Рѣшилъ, такъ значитъ такъ тому и быть. Не маленькій, чтобы у матери спрашиваться.
Иванъ Петровичъ не ожидалъ такого спокойствія и такого отвѣта; онъ радостно улыбнулся, хотѣлъ сказать что-то ласковое и благодарное, но вглядѣлся въ лицо матери и не сказалъ ни слова, и улыбка изъ радостной сдѣлалась робкой и виноватой.
Такъ рѣшился вопросъ о женитьбѣ Ивана Петровича и съ этой минуты и до самой свадьбы, которую сама Муся не пожелала откладывать на долгій срокъ, между матерью и сыномъ происходили только односложные разговоры, установились небывало сдержанныя отношенія.
Такъ же коротко и просто рѣшился вопросъ о мѣстѣ жительства для молодыхъ. Иванъ Петровичъ сказалъ:
— Маменька, я рѣшилъ, — и все лицо его залилось румянцемъ, — рѣшилъ принятъ пока это мѣсто… въ Петербурге. Какъ вы скажете?
— Рѣшилъ и прекрасно, — глухо отозвалась мать.