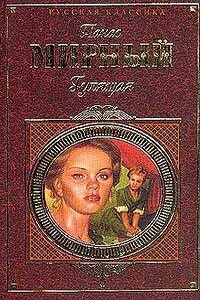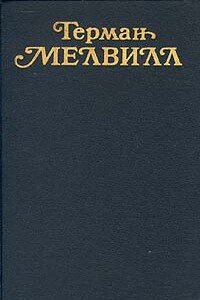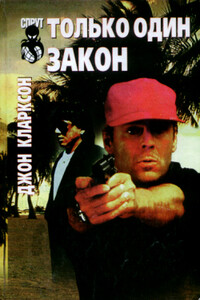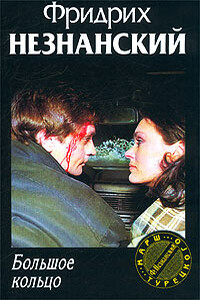Другой такой зимы, лютой и неистовой, люди не припомнят! Осень была дождливой: от второй пречистой [Церковный праздник – 4 ноября. ] начались дожди и шли непрерывно до самого Филиппова дня [27 ноября.]. Земля так насытилась водой, что больше ее уже не принимала. Большими лужами и озерами стояла вода на полях и в балках; на проселочных дорогах такая грязь – ни пройти, ни проехать. Не только в другое село, но даже к соседу нельзя было пройти в течение многих недель; жили как в неволе. Осенние дворовые работы приостановились. У кого был овин – молотил понемногу, собирал плоды летней изнурительной страды. Но много ли этих овинов в Марьяновке? У сборщика податей Грыцька Супруна – один; у попа – второй; у пана – третий; а у остальных хлеб гнил в стогах. И урожай этим летом не густой выдался – а нынче осень угрожала и его сгноить... Болело сердце хлебороба при виде залитых водой токов и почерневших, приникших к земле скирд. У Демиденка рожь проросла; у Кнура два стога мыши попортили; совсем скирды развалились, рассыпались – превратились в гниль. У Остапенка крыша продырявилась – вода в хату протекла: собирался этой осенью чинить кровлю, но помешало несчастье. На людей пошли напасти: простуды, лихорадка... Заработка никакого, денег нет. У иных и хлеба уже не стало, да и не у кого занять. Беда, наказанье Господне! Заказывали акафисты, служили молебны – ничего не помогало!
Так было до Филиппова дня. Ночью перед рассветом повеяло холодом; к утру выпал небольшой снежок. С неделю продержался мороз – земля затвердела, точно кость. Люди и этому рады: сразу бросились к хлебу. От зари до поздней ночи стучали цепы, лопаты, шуршало зерно на токах – горячо принялся народ за работу! Через неделю на месте почерневших стогов желтели скирды соломы. С хлебом управились, а отвезти его в город на базар или на ярмарку куда-нибудь – так грязь такая, что со двора не выедешь! Кое-кто не утерпел – поехал, так закаялся: у одного – вол надорвался, а у другого – сразу пара. У кого была лошаденка – еще так-сяк: возил понемножку. Да много ли этих коней в селе? Марьяновские крестьяне испокон веку хлеборобы: вол, а не конь – сила в полевой работе. Марьяновцы всегда предпочитали волов: на коне что? – поехать куда-нибудь на прогулку, а волы – для работы.
Жалко скотину, а тут пристали с подушными податями: ягнята, свиньи, коровы – все за бесценок пошло; в волость забрали да там и продали... Народ горевал, жаловался: ведь это же только первая половина уплачена, а где взять на вторую? Все носы повесили. Одна надежда осталась на ярмарку в Николин день [19 декабря. ] в городе: там если не продашь, то хоть пропадай! Люди в надежде на милость Божью молились, чтобы хоть немного снега выпало, дорогу прикрыло: все же сани не то что воз – и для скотины легче, и потянут больше.
В Наумов день [14 декабря. ] потеплело. Солнце спряталось за зеленые облака; к полудню подул ветер – наступила оттепель. Она продержалась три дня. Накануне Варвары [17 декабря. ] прошел мелкий снежок; до утра его изрядно выпало. Народ скорей собрался на ярмарку: у кого была скотина – запрягал свою, у кого не было – просился в компанию. Все выезжали и уходили: каждому нужно что-либо продать и купить.
Напросился и Филипп Притыка к Карпу Здору, своему соседу и куму. Положил на его сани пять небольших мешков ржи, один – пшеницы да полмешка пшена – весь излишек, который можно было продать; и вместе с кумом ранним утром на Варварин день поехали в город. Снарядила их в дорогу семья Здора; снаряжала мужа и Приська, жена Филиппа, еще не старая годами, но сильно постаревшая молодица; прощалась с ними и дочка Филиппа – семнадцатилетняя Христя. Приська наказывала мужу соли купить с полпуда; Христя просила отца привезти из города гостинец – перстень, сережки или хоть ленту какую-нибудь...
– Ладно, хорошо! Всего навезу! – с горькой усмешкой говорит Филипп, думая больше о подушной подати, про которую уже не раз напоминал Грыцько Супруненко, чем о просьбе дочери.
Город от Марьяновки в верстах двадцати. Если выехать перед рассветом, то к обеду как раз поспеешь. Так они рассчитывали, так и тронулись в путь-дорогу. С утра снег снова начал понемногу падать, потом пошел сильнее и гуще. Было тихо, а тут и ветерок подул, закружились снежные вихри. К обеду поднялась такая метель, что и света белого не видно! Уже не ветер, а вьюга завыла, поднимая с земли целые горы снега и неистово кружа их в воздухе. Не видно стало ни неба, ни земли – все затмила непроглядная метель... аж страшно, тоскливо стало на душе! Так продолжалось до ночи и весь следующий Саввин день [18 декабря.]. Во дворах намело такие сугробы, что глядеть страшно было: некоторые хаты совсем занесло.
Марьяновка раскинулась на двух холмах, между которыми в низине находился небольшой пруд. Теперь этой низины и не видно: извилистые сучья высоченных верб, словно стебли бурьяна, торчат из-под снега; улицы засыпаны, во дворах вровень с хатами стоят большущие снежные сугробы, только ветер треплет их заостренные головы. В подворье Притыки, крайнем от церкви, и хлева, и клети полны снега. Вокруг хаты, словно сторожа, стоят пять высоких сугробов; ветер срывает с них снег и перебрасывает его через кровлю. На ней и на трубе столько снега, что не узнать, то ли это людской очаг, то ли огромный сугроб. На Николин день метель улеглась, зато ударил такой мороз – прямо обжигает! А ветер, того и гляди, опрокинет, сорвет с земли... Такого холода никто не припомнит! Галки замерзали на деревьях и, как ледяные сосульки, падали на землю; воробьи околевали в клетях... В церкви, несмотря на такой большой праздник, не было службы: к храму нельзя было пробраться. Народ с самого утра взялся было за лопаты, чтобы хоть тропинку проложить, но, ничего не добившись, люди разошлись по домам. Скотина третий день не поена: водопой совсем замело, да и сама скотина в неволе, к ней с большим трудом можно было добраться, чтобы кинуть вязанку соломы... Овцы и телята начали околевать... Еще два таких дня – и ничего от скота не останется. Сбылась поговорка: «Варвара погрозит, Савва постелет, а Никола скует».