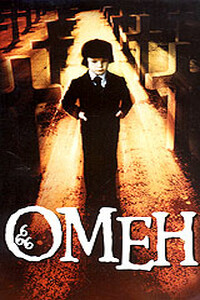"Равнение на середину!"
Мы выросли в насквозь промуштрованной стране.
"Россия – страна не земледельческая и не торговая, а военная, ее призвание – быть грозою мира", – определил Николай Второй – и был совершенно прав. Николая прогнали, возможно, еще и потому, что он не сумел реализовать это призвание с наибольшей полнотой. С такой, как это сделали большевики во главе с Каннибалиссимусом всех времен и народов.
Мой папа был человек тишайшей профессии: экономист. Но политическую экономию преподавал в военных вузах, состоял в кадрах
Красной Армии и носил командирскую форму: штаны-галифе, сапоги, гимнастерку с тремя "шпалами" в петлицах, скрипучую портупею. И даже когда его выгнали "за троцкизм", продолжал донашивать военную одежду, предпочитая ее штатской.
Даже у мамы, которая к воинской службе никакого отношения не имела, был именной, даренный начальством браунинг. Стрелять она не умела, звука выстрелов боялась, но оружие с патрончиками, похожими на пипки свифтовых лилипутов, хранила в ящике книжной этажерки.
Когда начались репрессии 37-го года, папа, во избежание неприятностей, вышвырнул опасную безделушку вместе с хорошенькими патрончиками в тухлую харьковскую речку Лопань. (Об этом более подробно рассказано в моих "Записках без названия", книга 1-я).
Может быть, под влиянием пьянящего запаха портупеи, скрипа хромовых отцовых сапог, ласкового тускловатого отсвета его кобуры, тревожного вида крошечных маминых пулек, – я с детства полюбил маршировать. Но будучи толстячком (во дворе меня добродушно и безжалостно называли "Пузя"), я делал это хотя и старательно, однако неуклюже. Удовольствие было написано на моем круглом, улыбчивом лице, когда мы, детсадовцы, вышагивали под музыку раздрызганного пианино мимо большого зеркала в комнате для занятий по "ритмике".
Шагистика, строй, речевки – все это было знамением времени.
Некоторые на том даже свихнулись. До войны в Харькове жил Миша – городской сумасшедший. Всегда небритый (как ныне – Арафат!), в красноармейской шинели, в защитного цвета фуражке-"сталинке" и калошах на босу ногу целыми днями слонялся он по аллеям городского парка, выпрашивая подаяние. Шаркающей походкой подойдет, бывало, к отдыхающим на скамейках, протянет сложенную лодочкой ладонь – и просит:
– Больной. Дай копейку!
Это означало, что больной – он, а копейку ему обязаны дать вы.
Некоторые давали, другие пытались вывести попрошайку на чистую воду:
– Миша, не притворяйся!
Не дождавшись милостыни, он равнодушно и спокойно отходил прочь – и тут же шел к следующей скамейке все с той же просьбой:
– Больной. Дай копейку!
Ходила легенда, будто в детстве и юности он хотел учиться игре на скрипке, но самодуры родители запретили – оттого-де бедняга и повредился умом. Другие рассказывали о несчастной любви, но и тут рассказ замыкался на страсти к музыке. Ее Миша и впрямь обожал, особенно военную. Стоило ему услыхать не то что оркестр, но хотя бы пение марширующей роты, как он сломя голову бежал на звуки песни.
Пристроится, бывало, на левом фланге – и "марширует" шаркающей своей походкой в толпе мальчишек, которыми нередко в те годы прирастал любой поющий или марширующий под музыку строй.
Вернувшись в Харьков вскоре после его освобождения от немцев,
Мишу я уже не встречал. Говорили, будто с приходом оккупантов этот безобидный меломан по привычке пристроился к их поющему подразделению, но тут же был кем-то из шагающих деловито пристрелен.
Нацисты не любили и безжалостно уничтожали сумасшедших и евреев, а
Миша был, кажется, и тем. и другим.
По возвращении я поступил в пятый класс, и тогда же стали преподавать у нас как учебный предмет "военное дело". Сперва учителем был демобилизованный по ранению еврей Геллер. Он вел и уроки физкультуры, на занятия приходил в галифе и тапочках.
Почему-то его прозвали "Зюзя-парикмахер". Зюзе, как видно, надоело с нами чем-либо заниматься, и однажды он, войдя в класс и выслушав рапорт дежурного ("Товарищ военрук! Класс такой-то в количестве стольких-то человек к занятиям готов!"), скомандовал с легкой шепелявинкой:
– Вольно! Щадищь (то есть – "Садись!") Щегоднящней темой урока будут… анекдоты! Ращщкаживайте!
Возликовав, один за другим выходили шестиклассники (школа у нас была мужская) и, постепенно, на пробу увеличивая меру непристойностей, травили анекдоты один другого позабористей. Зюзя же только снисходительно улыбался.
Вскоре он поступил куда-то не то на другую работу, не то учиться, и Бог послал нам Мыльника. Этот гневливый, полуприпадочный мужик проводил уроки всерьез: отрабатывал "Р-р-равнение направо!" и
"Р-р-равнение налево!", объясняя, что при этом мы должны видеть
"грудь четвертого человека": только тогда шеренга будет ровная.
Заставлял печатать строевой шаг – и отсчитывал такт голосом бравого старшины:
– А – раз! А – раз! А – раз! Два! Три!
Приносил на уроки русскую трехлинейную винтовку "образца 1891-го дробь тридцатого года" и, вынув затвор, показывал его детали:
– Стебель – гребень – рукоятка!
Этот классический хорей мы заучили на всю жизнь.
Юркий, любознательный Эдик Братута как-то раз уж слишком настойчиво лез с расспросами и все хватался за лежащие на учительском столе части: то за стебель, то за гребень. Военрук вдруг