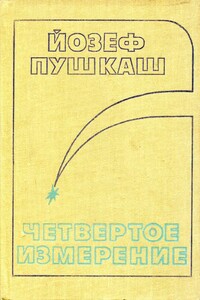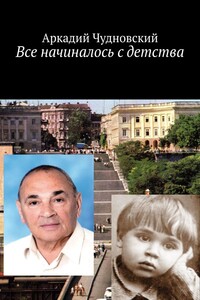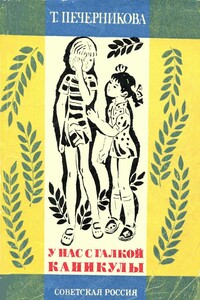Пройдет немало лет, прежде чем Дудочник вернется за остальными детьми. Музыку его заглушили, но юные и старые, большие и малые — все подряд — принуждены идти за ним вслед, тысячами… даже великаны-людоеды в сапогах-скороходах да с плетками звонкими, даже их псы о девяти головах. Мы — крысы, это наш исход, Земля ежится у нас под ногами. Весна оставляет по себе горький вкус. Дождь и люди падают дни напролет, а ночи напролет рыдают в озерах русалки. Медведь кровавого окраса сопит нам в пятки. Я не свожу глаз с дороги, считаю белые камешки и страшусь того, куда ведет нас этот след из пряничных крошек.
Подействовало ли заклятье? Думаю, да: кольца тумана обвивают нам лодыжки, подымаются и глушат все звуки, заглатывают всех, кто рядом, целиком. Миг наступает, и мы бежим со всех ног, волоча Тень за собой, останавливаемся, лишь когда моя вытянутая рука нащупывает грубую кору сосновых стволов. Шаг, другой — и вот уж мы в заколдованном лесу, воздух прошит льдистыми ведьмиными вздохами. День схлопывается вокруг нас. Призрачные караульные бросаются вниз с деревьев, требуют назваться, но наши зубы настороже, никаких ответов, и надзиратели убираются прочь, хлопая крыльями, на восток, к луне в облачном саване. Корни змеятся, тянут нас к лесной подстилке. Мы таимся в тиши, прерываемой далеким стуком рогов, что сбрасывают олени.
Просыпаемся — нас не съели. Солнце впитало последние клочья тумана. Кругом, похоже, ни души. Недалеко же мы ушли: я вижу дорогу, но путников на ней и след простыл. Тихо — покуда кукушка не закликала из чащи.
— Слушай.
— Kukułka, — отзывается он и прикрывает глаза ладонью, всматриваясь в верхушки деревьев.
— Ку-ку, — говорю я ему. Он по-прежнему разговаривает странно. — Она делает ку-ку!
Он по обыкновению резко дергает плечом.
— Зато мы на воле.
— Пока двигаемся — да. Пошли.
Тень скулит, но мы насильно ставим его на ноги и, поддерживая его с обеих сторон, бредем вдоль кромки леса, пока не выбираемся к полям, где вороны деловито выклевывают глаза молодой пшенице. А дальше свежезахороненная картошка дрожит под земляными грядами. Рядами зеленых голов пухнут кочаны капусты. Мы встаем на колени и вгрызаемся в их черепа, капустные листья застревают у нас в глотках.
Идем дальше, ноги тяжелеют от цепкой глины, но тут Тень оседает на землю. Я тяну его за руку:
— Тут опасно. Надо идти. Если заметят, что нас нет…
Надо идти. Нам надо идти. Уж точно рано или поздно какие-нибудь добрые гномы или мягкосердечная жена великана сжалятся над нами. Но страх стал слишком привычным попутчиком — недолго ему гнать нас вперед. Еще и Тень с собой тащим. Голова у него повисла, глаза нараспашку, пустые, ноги волоком — две борозды тянутся следом в рыхлой грязи. Нам, похоже, конец от него настанет.
— Надо идти дальше одним.
— Нет, — пыхтит он. — Я обещал не бросать…
— А я — нет.
— Иди тогда сама. Спасайся.
Он знает, что я без него не уйду.
— Без толку стоять да разговаривать, — огрызаюсь я, подцепляю рукой плечо Тени и удивляюсь, как такое тонкое — будто лезвие ножа — может быть таким тяжелым.
Еще одна передышка — на сей раз мы присели на мшистый изгиб дуба, попробовали сжевать горстку прошлогодних желудей. Остались только проросшие. Тень лежит, где мы его бросили, смотрит в небо, но я-то вижу, что глаза у него теперь полностью белые. Оно вдруг кричит — громче мы ничего никогда от него не слыхали, — а дальше прерывистый вдох и длинный, судорожный выдох. Я выплевываю последние желуди. Тень больше не дергается и не вздрагивает, как мы привыкли; надавливаю ногой ему на грудь — не шелохнулось. Миг-другой — и я собираю пригоршню дубовых листьев и укрываю ему лицо.
Он пытается меня остановить:
— Зачем ты это?
— Оно мертвое.
— Нет! — Но я вижу облегчение, когда он опускается на колени проверить. — Мы столько всего сносим, а умираем все равно как собаки… pod płotem... у забора, под кустом. — Он закрывает Тени глаза. — Baruch dayan emet[1]. — Должно быть, молитва: губы шевелятся, но ничего не слышно.
— Но мы-то не умрем. — Я тяну его за одежду. — Тени долго не живут. Ты же знал, что зря это. Зато теперь быстрее пойдем, ты да я.
Он стряхивает мою руку.
— Тут земля мягкая. Помоги могилу выкопать.
— Нет уж. Времени нет. Нам надо идти. Уже за полдень. — Вижу, он колеблется. — Тень никто не съест. Мяса никакого. — Он не двигается с места, и я ковыляю прочь, стараясь не оборачиваться. Наконец он догоняет.
Тропка вьется между лесом и полем. Один раз примечаем деревню, но решаем, что к логову колдуна мы все еще слишком близко, это опасно. Вот и солнце покидает нас, и идем мы все медленнее, пока я не сознаю, что дальше мы не потянем. Лес поредел: перед нами расстилается бескрайнее поле с ровными бороздами, докуда глаз хватает. Мы забираемся глубоко в кустарник, и тут я понимаю, что поле это — бобовое.
— Какая разница? — спрашивает он устало.
— Сесили говорила, если заснешь под цветущими бобами — спятишь.
— Нет тут цветов, — отрезает он.
Ошибается. Несколько верхних бутонов уже развертывают белые лепестки, в сумерках призрачные, а наутро очевидно, что надо было нам поднажать: за ночь раскрылись сотни цветков и танцуют теперь бабочками на ветру, разливая в теплеющем воздухе свой аромат.