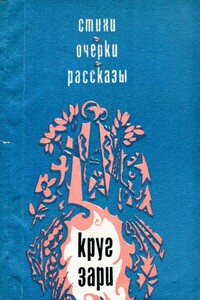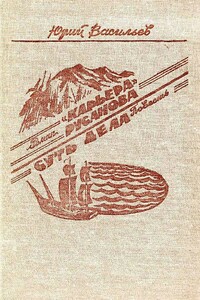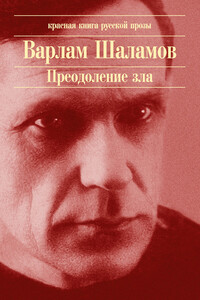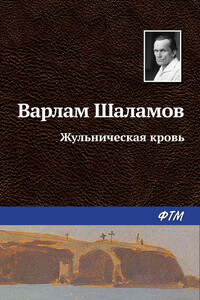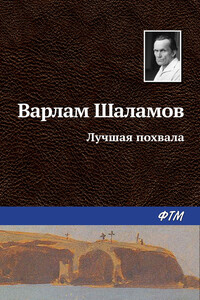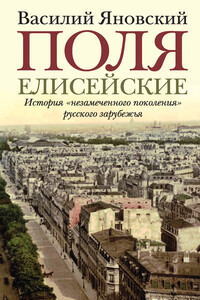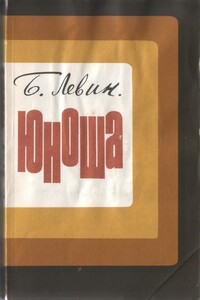Борис ЛЕВИН
ГОЛУБЫЕ КОНВЕРТЫ
Жена Дмитрия Павловича Непряхина получила письмо:
"Сонечка, родная!
Я долго думал, прежде чем написать эти два слова. Но, честное слово, нет ничего, что лучше выразило бы мое отношение к вам. Впрочем, это не важно. Завтра неделя, как я живу здесь. Я поселился в "Доме приезжих". Это на самой постройке, в четырнадцати километрах от города. Место выглядит, как после землетрясения. Всюду ямы, котлованы, песок, цемент, кирпич, железо.
Стройка работает круглые сутки. Ночью все залито светом, стучат пневматические молоты, свистят паровозы, гремит железо. Завод растет, как в сказке.
Здесь была голая степь. Сейчас стоят уже два готовых цеха и почти готовые корпуса главных цехов - механического, кузницы и литейного.
Механический цех - полкилометра длиной - самый большой в СССР. Живу я очень одиноко - почти все наши инженеры живут в городе. Встаю рано, с работы прихожу поздно, для себя остается часа три в день. В это время я читаю, пью чай и хожу по комнате. Жене я написал, что больше к ней не вернусь. У меня с ней ничего общего не было. Нас связывал только сын, но он умер прошлой весной. Теперь я опять один, ни с кем не связанный и ничего не ожидающий. Внутри меня тишина, немного кладбищенская. Единственно хорошо, что увлекает работа. Ваша карточка... помните, где вы сняты в гимназическом платье с перекинутой косой, ну, та самая карточка, которую я выменял у вашего братца за перочинный ножичек и книжку Майн Рида.
Эту карточку я все годы таскаю с собой. И сейчас она лежит у меня в письменном столе, и каждый раз, когда я вынимаю пачку папирос, я вижу ее, мне становится теплее и радостнее. Это оттого, Соня, что я вас, должно быть, еще до сих пор люблю.
Узнал я. ваш адрес случайно. Когда ехал сюда, то в Козлове (у меня там была пересадка) я встретил Назарова, - помните, долговязый заика, он вместе со мной же учился в реальном? Сейчас он врач. Не видал его лет десять. Стали вспоминать мы с ним товарищей нашего выпуска, их оказалось очень мало. Из тридцати шести человек в живых насчитали что-то около семивосьми. Остальные убиты. И, конечно, вспомнили и знакомых гимназисток. Вот он мне и рассказал, что вы вышли замуж и живете в Москве.
Сначала думал не писать вам. Ведь однажды, еще с фронта, я послал вам письмо, но вы не изволили ответить. И сейчас было решил вырвать вас навсегда из сердца и не писать... Но вот, видите, пищу и об этом нисколько не жалею. Я много о вас думал и думаю. Вы мне часто снитесь. Был бы очень рад, Софья Яковлевна, если бы вы черкнули пару слов вот по этому адресу.
Ваш В. Гуръин".
Софья Яковлевна показала письмо мужу и похвасталась:
- Смотри, Дима, какие я еще письма получаю, а ты говоришь, что я старуха.
Дмитрий Павлович внимательно прочел письмо и спросил!
- Напишешь ему?
- Нет, - ответила Софья Яковлевна, - терпеть не могу переписываться. Потом все это было так давно, и я так мало знаю его, что мне абсолютно неинтересно.
Писать письма Софья Яковлевна действительно не любила.
И, главным образом, потому, что она писала безграмотно, хотя в свое время и прошла курс гимназических наук. Всякий раз, когда ей приходилось с кем-нибудь переписываться, она просила мужа, чтоб он выправил ошибки.
- А то напиши, - предложил Дмитрий Павлович, - я исправлю.
- Нет. Не буду. Неинтересно, - категорически сказала Софья Яковлевна.
- Кто он такой?
- Это Боря Гурьин. Один из товарищей моего брата Вити.
Он учился вместе с Витей в реальном и был в меня влюблен.
Раз он из-за меня даже выпил десять стаканов воды.
- Что за чепуха! Зачем? - недоумевая, спросил Дмитрий Павлович.
- Как зачем? Ведь я же тебе говорю, что он был в меня влюблен. И вот однажды он пришел - брата дома не было, я ему открыла дверь, а он попросил стакан воды. Я принесла, он попросил второй. Я ему второй, третий, четвертый. Так он выпил десять стаканов у меня на глазах. Потом уж Витя мне рассказал, что это он нарочно, чтобы дольше на меня смотреть...
Вот мальчишка! - заметила кокетливо Софья Яковлевна и продолжала: - Я его терпеть не могла. Во-первых, он некрасивый, всегда краснеет, губы толстые и уши торчат, как у зайца. Потом меня домашние им дразнили. Особенно Витя изводил: "Мадам Гурьина", "гурьина каша". А, во-вторых, я была старше его и по возрасту и по классу, и за мной уже тогда ухаживали студенты.
Слово "студенты" прозвенело синим колокольчиком из далекого прошлого.
- А то, может быть, Сонечка, все-таки напишешь? - спросил Дмитрий Павлович. - Жалко его. Человек на стройке, много работает, одинок, сын умер. Я знаю, ему будет очень приятно получить от тебя письмо. Напиши, уговаривал муж. - Давай вместе сейчас сядем и накатаем. Жалко же, надо его поддержать.
- Глупости, - сказала Софья Яковлевна. - Я и не знаю, что ему писать. Потом, какое мне дело до него. Нет. Не буду. Ну его! Если тебе жалко, то пиши сам, я ни за что не стану, - и Сонечка резко закачала головой.
Письмо осталось на столе у Дмитрия Павловича. Он еще раз прочел его, и ему больше стало жаль Бориса Гурьина. Он увидел стройку, залитую светом. Он услыхал грохот железа и тревожный свист паровоза. Он увидел, как некрасивый, но энергичный инженер носится мимо ям и балок. Руки у него в мазуте, лицо в копоти, измазался, лазая под машины.