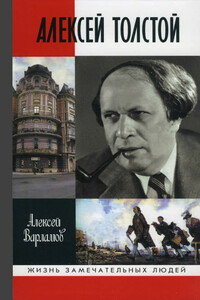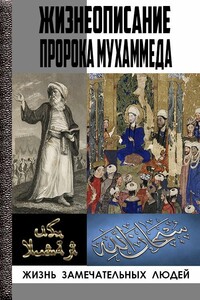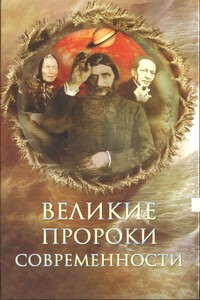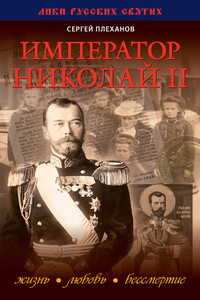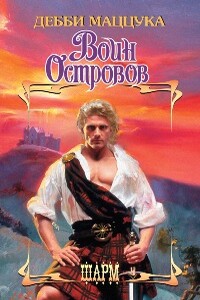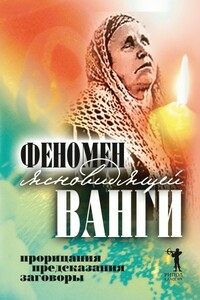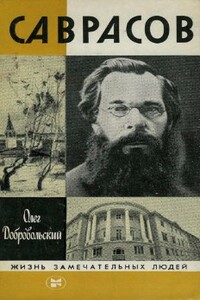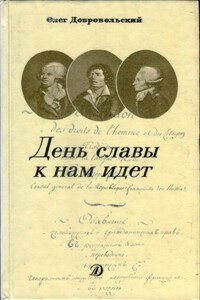Днем было тихо, падал мелкий снежок, но к вечеру погода испортилась, по улице понеслась, закрутилась поземка, повалил снег, завыл ветер. Екатерина Яковлевна, загодя протопив хорошо печь, загребла кочергой раскаленные угли, прикрыла заслонку. В помещении постоялого двора тепло. Хозяйка поставила на темную столешницу большой чугунок со щами, горшок каши. Крестьяне, ехавшие с обозом в Москву, перекрестившись, принялись не спеша за еду. Керосиновая лампа, стоявшая на столе, освещала раскрасневшиеся бородатые лица, тусклые блики дрожали у стен, по углам, где на лавках горбились полушубки и тулупы, лежали шапки и рукавицы. Поев, мужики еще долго сидели, курили, вели неторопливый разговор, прислушиваясь к вою ветра, к яростной игре начинавшейся метели.
Анюта, высокая не по годам, длинноногая девчонка, спустившись по скрипучей лестнице со второго этажа, где обитало семейство Голубкиных, прошмыгнула в комнату к возчикам и, как это было уже не раз, встав на приступок, забралась на лежанку: ей нравилось, интересно было слушать мужицкие байки, разные истории и случаи, которые рассказывали бывалые обозники. Растянувшись на овчине старого полушубка, опершись острым худым локтем о подушку в ситцевой, в горошек, наволочке, она глядела сверху на крестьян в армяках и поддевках, а то и в одних рубахах и портах сидевших на лавках, на вьющиеся над их взлохмаченными головами, медленно плывущие струйки сладковатого махорочного дыма.
Постояльцы говорили о жизни, делах, недавних происшествиях.
— Слыхал я, — сказал пожилой крестьянин, — в Кончакове сгорела рига с хлебом. И веялка. Все сгорело…
— Подожгли, что ль?
— Может, и подожгли…
— А вот у соседа моего, — пробасил здоровенный мужик, — три меры пшена, девять мотков кряжи уперли…
— Да, балуют люди…
— Еще как! У свояка цыган мерина увел. И сбрую прихватил…
— Грех, да и только…
Помолчали, повздыхали. Потом кто-то спросил:
— Верно ли, братцы, что в Жеребятникове мужик удавился на бечевке от лаптей?
— Верно. Нищета довела, окаянная… Говорят, жена его померла. Четверо сирот осталось, да все малолетки…
— Как же они теперь?
— Кто знает… Старуха мать, говорят, жива. Да разве ей одной их поднять?
— Где уж… Может, сродственники, если есть, пособят…
— Дожидайся… Таков наш рок, что вилами в бок!
Слушает Анюта на лежанке эти грустные истории, и жалко ей незнакомого крестьянина из села Жеребятникова и особенно осиротевших ребятишек…
Один обозник поднялся, взял фонарь, зажег внутри его сальную свечку и, набросив на плечи нагольный тулуп, пошел к выходу.
— Погляжу на саврасок…
Разговор продолжался. Молодой мужик стал рассказывать, как в Баринове полицейский урядник арестовал какого-то человека.
— Одет по-нашему, по-деревенски. В полушубке, в валяных сапогах… Бороденка черная… А послушаешь его — сразу видать, пришлый, не мужицкого роду. Такие речи вел, сказать страшно…
— Да что же?
— Что? Подбивал против царя-батюшки идти…
— Эко!.. Да разве можно?
— Знамо, нельзя. Так ведь говорил…
— Смутьян…
— Царь нас освободил…
— Освободить-то освободил… Да землицы не дал…
— А что еще сказывал этот… кто мужиков бунтовать призывал?
— Что надо, мол, землю у господ-помещиков отобрать и между нами, крестьянами, поделить…
— Куда хватил!..
— Да… За такие разговоры в острог да в Сибирь…
Вернулся постоялец, ходивший проведать в конюшне лошадей. Тулуп его запорошен снегом.
— Метет не на шутку. Такая круговерть…
— Вовремя мы добрались, — отозвался кто-то из угла. — Не приведи господь очутиться сейчас в поле…
И в самом деле, даже в доме слышно, как вьюжит на улице все сильнее и неистовее. Доносятся свистящие порывы ветра, дребезжит стекло, стучит что-то снаружи — не то ставень, не то доска… А в комнате тепло, уютно. В полусумраке мигает на столе лампа с закоптившимся колпаком, разливая вокруг желтоватый свет. Пахнет щами, овчиной, махоркой-самосадом… Мужики уже укладываются по лавкам, накрываются верхней одеждой, а Анюта все еще не уходит, знает, что они сразу не заснут, еще что-нибудь расскажут. И верно…
— Э-эх… — слышится чей-то тяжкий вздох. — Жисть эта — суета сует… Копошится человек, копошится, а все одно помрет…
— Что ты, старый, на ночь о смерти заговорил?
— Да чего уж… Правду говорю. Разве не так?
— Так… Но к чему про смерть поминать? Живой о живом думает…
— Хошь, парень, сказку скажу?
— Скажи. Про кого?
— Про Анику-воина. Не слыхал?
— Не приходилось. Валяй… Сказки я люблю…
— Тогда слушай… Жил-был на свете один человек — Аникой-воином звали его… Разбойник, душегуб, каких еще свет не видывал. Жил он двадцать лет с годом, пил-ел, силой похвалялся, разорял торги и базары, побивал купцов и бояр и всяких людей. И задумал Аника-воин ехать в Ерусалим-град церкви божии разорять, взял меч и копье и выехал в чистое поле — на большую дорогу. А навстречу ему Смерть с острою косою. Стал он над нею насмехаться, спрашивает: что за чудище такое? А та в ответ: я твоя смерть — за тобой пришла… Аника-воин ничуть не оробел, стал ей грозить, силой своей похваляться… Смерть же ему говорит: «Сколько ни было на белом свете храбрых могучих богатырей, я всех одолела. Сколько побил ты народу на своем веку! И то не твоя была сила, то я тебе помогала». Рассердился Аника-воин, напускает на Смерть своего борзого коня, хочет поднять ее на копье булатное, но рука не двигается. И напал на него великий страх… Стал он умолять Смерть дать ему сроку прожить один год, полгода, хоть три месяца… А Смерть ему: «Нет тебе сроку и на три часа». Тогда Аника-воин говорит: «Много есть у меня и сребра, и золота, и каменья драгоценного… Дай сроку хоть на единый час — я бы роздал нищим все свое имение». Отвечает Смерть: «Как жил ты на вольном свете, для чего тогда не раздавал своего имения нищим? Нет тебе сроку и на единую минуту!» Замахнулась Смерть острою косою и подкосила Анику-воина: свалился он с коня и упал мертвый…