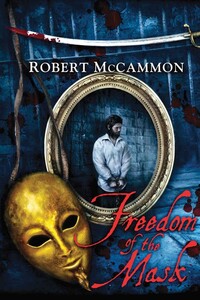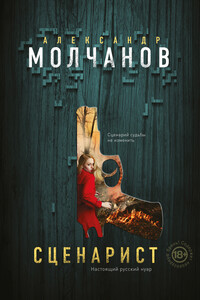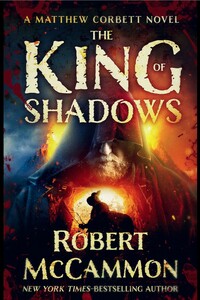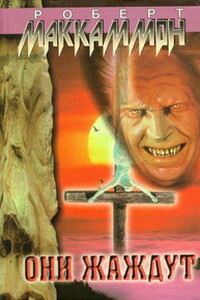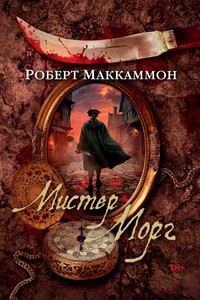Обоим путникам уже было ясно, что ночь застигнет их в дороге и надо искать кров.
Денек выдался приятный — для жаб и лягушек, зато на представителей рода человеческого низкие серые тучи и холодный дождь нагоняли цепенящую тоску. Согласно всем правилам и предсказаниям календаря, уже должен был прийти полновластным хозяином приятный и веселый месяц май, но в этом году он входил крадучись, как оборванец, ворующий свечки в церкви.
Сквозь переплетение крон в сорока футах над дорогой струилась потоками вода, листья древних дубов и вязов, хвоя устремленных ввысь сосен отсвечивали скорее черным, чем зеленым; на огромных стволах бородой свисали мхи да виднелись клочья лишайника размером с добрый кулак кузнеца. Сказать, что под этими ветвями шла дорога, значило бы позволить себе языковую вольность — это было язвенного цвета грязевое русло, выходящее из тумана и в тумане пропадающее.
— Но, но! — крикнул кучер фургона двум выбившимся из сил клячам, влекущим фургон на юг. Коняги, тяжело дыша впалыми боками, волокли по слякоти деревянные колеса, и пар шел у них из ноздрей. Небольшой кнут был у возницы под рукой, но в ход он его пускать не стал. Лошади, предоставленные, как и фургон, муниципальными конюшнями города Чарльз-Тауна, и без того делали все что могли. Под протекающим коричневым джутовым навесом фургона, за грубой сосновой скамьей, которая то и дело норовила всадить щепку-другую в задние части своих пассажиров, расположились два разнокалиберных сундука, саквояж и картонка для париков — на всем багаже виднелись царапины и вмятины, свидетельствовавшие о долгих дорогах и дурном обращении.
В небе зарокотало. Коняги с натугой вытаскивали копыта из грязи.
— Ну, вы! — прикрикнул возница без малейших следов энтузиазма. Руками в серых парусиновых рукавицах он слегка дернул вожжи для проформы и дальше сидел молча, предоставив дождю стекать по спине, по заляпанной грязью треуголке, пропитывая и без того промокшее касторовое пальто с оттенком воронова крыла.
— Я возьму вожжи, сэр?
Возница глянул на своего товарища по несчастью, который предлагал перенять бразды правления.
Никаким усилием воображения нельзя было бы назвать этих людей одинаковыми. Вознице было пятьдесят пять лет, его пассажиру — только-только двадцать. Старший был широк в кости, с тяжелой челюстью и румяным лицом, густые кустистые брови нависли крепостными стенами над глубоко посаженными глазами ледяной синевы, в которых дружелюбия было не больше, чем в дулах заряженных пушек. Нос у него — как сказал бы вежливый англичанин — был хорошо выражен; прямодушный голландец ляпнул бы, что у обладателя этого носа была в роду гончая. Подбородок у возницы тоже выглядел как крепкий кусок статуи — квадратный больверк с бороздой, в которой поместилась бы мушкетная пуля. Обычно это лицо бывало чисто выбрито тщательными проходами бритвы, но сегодня на нем виднелась щетина цвета соли с перцем.
— Да, — сказал он. — Спасибо.
Он передал вожжи — процедура, не в первый раз выполняемая за последние часы, — и стал разминать пальцы, стараясь вернуть им чувствительность.
Худое, с длинным подбородком лицо юноши видало куда больше свеч, чем солнца. Он был тощий, но не болезненно, скорее даже жилистый, как крепкая садовая лоза. Одет он был в башмаки с тупыми носами, белые чулки, оливково-зеленые бриджи и короткий облегающий коричневый сюртук из дешевого кашемира поверх простой белой полотняной рубахи. Заплат на коленях бриджей и на локтях сюртука было не меньше, чем на одежде его старшего спутника. На голове юноши сидела мышиного цвета шерстяная шапка с козырьком, натянутая посильнее на редкие черные волосы, недавно остриженные почти наголо в борьбе со вшами, одолевающими Чарльз-Таун. От взгляда на молодого человека — на его нос, подбородок, скулы, локти, колени — возникало впечатление сплошных острых углов. Глаза у него были серые, с блестками темно-синего — цвета дыма в сумерках. Он не стал понукать лошадей или ободрять их вожжами, только направлял несчастных кляч. Молодой человек был прежде всего стоиком и ценность стоицизма понимал хорошо, потому что в жизни прошел такие испытания, какие под силу только стоику.
Старший же, разминая руки, бурчал про себя, что, если после такой пытки он доживет до пятидесяти шести, то бросит свое призвание и станет самаритянином во славу Господа. Он не был вылеплен из грубой глины приграничья и считал себя человеком утонченного вкуса, горожанином, не приспособленным к скитаниям в дикой глуши. Он ценил аккуратную кирпичную кладку и расписные заборы, приятную симметрию подстриженных живых изгородей, солидную регулярность обходов фонарщика. Он был цивилизованным человеком.
Дождь стекал по спине, заливал в сапоги, смеркалось, а у пассажиров фургона для защиты своего имущества и скальпов только и было, что ржавая сабля. В конце грязевой дороги ждал поселок Фаунт-Роял, однако это мало утешало. Работа в деревне предстоит не слишком приятная.
Но вот — хоть капля милосердия! Дождь стал стихать, гром отправился грохотать куда-то в другое место. Старший подумал, что самая суровая буря уходит, наверное, к океану, который иногда мелькал пенистой серой равниной в редких просветах леса. И все же лица продолжала жалить противная морось. Нависшие складки тумана обволокли ветки и сучья, фантасмагорической мантией одели весь лес. Ветер стих, воздух наполнился густым, зеленым болотным запахом.