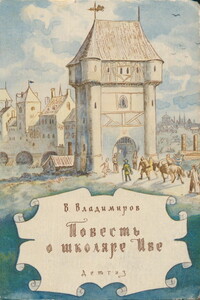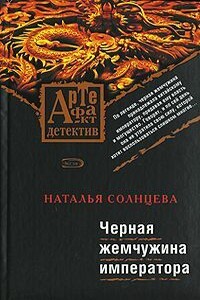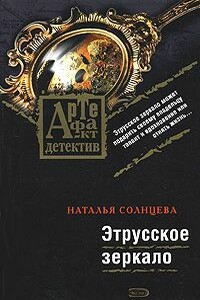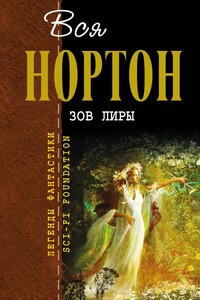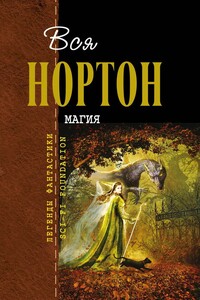***
В свете фонарей падали с темного неба крупные снежинки, и было тепло и тихо. Здесь всегда было тихо и спокойно, даже ранними вечерами, только у подъезда клуба ВМА толпились молодые люди в длинных шинелях, да по площади бегали мальчишки, мокрые от снега.
Они условились встретиться в восемь, а было еще без четверти, и Григорий некоторое время постоял у афишной тумбы, читая, что в каком театре идет. Он терпеть не мог театра, но давно решил, что на этот раз надо обязательно сходить куда-нибудь с Валькой, хотя знал, что потом будет плеваться и поносить театральных критиков вообще и Мишку Шмидта в частности. Он подумал, что надо бы навестить Мишку и рассказать ему про его однофамильца из Баварии, Вольфганга Шмидта. Как тот все жаловался, что в Гвадалахаре нет пива, а потом под Торихой ему удалось подбить штабную машину, и в машине оказался целый ящик с пивом. Ящик был оцинкован, на нем, уткнувшись головой, лежал толстый майор с перебитым позвоночником. В ящик натекло крови, но Шмидт, отпихнув труп, стал доставать бутылку за бутылкой и передавать бойцам. Он таскал бутылки по три-четыре каждой рукой, из машины торчал его зад в брезентовых штанах, на каждой ягодице было по дыре, и из дыр торчали клочья серого от грязи белья. Бойцы подхватывали бутылки и тут же пили, отбивая горлышки, и мне тоже досталась бутылка. Стекло было в крови, пиво оказалось теплым, но оно было вкуснее, чем вода из Эбро — желтая, холодная, провонявшая мертвечиной.
Григорий взглянул на часы. Было ровно восемь. Сашка сказал, что будет дома ровно в восемь, а если не в восемь, то ровно в десять. Он и раньше назначал так свидания, даже девчатам, и те не обижались. Потому что догадывались, наверное, какая у него работа. Сашка не любил рассказывать, где он работает и чем занимается, но все его знакомые рано или поздно узнавали об этом. Он просил, чтобы про него говорили, будто он милиционер, но Григорий обычно рассказывал знакомым, что Сашка — завмаг, «знаете, булочная на углу Финляндского и Астраханской». «А-а…» — говорили знакомые разочарованно. Сашка был больше похож на боксера, чем на завмага.
Сашкина квартира была на третьем этаже, и окна были освещены. Григорий шагнул на мостовую, чтобы перейти улицу, но тут подкатила эмка, гуднула и остановилась, загородив дорогу. Из эмки вылез плечистый парень, открыл капот и полез в мотор. Снег все падал, теплый, мягкий, совершенно ленинградский снег, кружился вокруг матовых шаров фонарей, опускался на лицо и на ресницы. Григорий протянул руку, и на ладонь опустились мохнатые снежинки. Ручной снег, подумал Григорий. Он обошел эмку, перешел улицу и вошел в вестибюль. В вестибюле топилась большая, зеленого кафеля печь, было светло и тепло, и было приятно подниматься по лестнице и знать, что тебя ждут, и завтра будут ждать — уже в другом месте и другие люди, и послезавтра и еще долго-долго, месяца два. Два месяца приятных обязанностей, исключительно приятных обязанностей и хорошей работы, и работать есть над чем, и приятно думать, что эта работа сейчас нужна, потому что на Эбро не так уж много журналистов, и большинство из них пишут ерунду, ставят все вверх ногами — чаще не по злобе, а по глупости. Просто не видят главного — классовая глупость, они считают, что человек — всего лишь человек, и переубедить их невозможно, да, наверное, и не нужно…
Сашка стоял на стремянке и копался в дверном звонке.
— Здравствуй, завмаг, — сказал Григорий.
Сашка взглянул сверху вниз, спрыгнул и сказал:
— Здравствуй, испанец.
— Салюд, камарада, — сказал Григорий, и они обнялись и стали хлопать друг друга по спине.
— Жив, жив, писака, — приговаривал Сашка. — Жив, старый хрен…
Они отпустили друг друга, и Сашка сказал:
— Заходи, раздевайся и кури. Я сейчас…
У него стало какое-то другое лицо — какое-то немного обрюзглое, немного старое, немного нездоровое, но глаза были теплые, кожа по-прежнему смуглая, и у него была прежняя боксерская челюсть.
— Заходи, заходи, нечего меня разглядывать. — Он втащил Григория в прихожую, а сам снова забрался на стремянку. — Там Олег сидит, — сообщил он со стремянки.
— Да ну! — Григорий торопливо стащил пальто, смотал с шеи шарф и бросил шапку на столик у дверей. Он пошел прямо в гостиную. Там сидел тощий и бледный Олег и курил трубку. На столе стояла всякая закуска и две бутылки с коньяком.
— Ого-го! — заорал Олег и вскочил, распахивая руки. — Писатель!
Они обнялись.
— Рассказывай, — сказал Олег.
— Да ну тебя к черту, — сказал Григорий. — Я тебя сто лет не видел. Ничего не хочу рассказывать.
— Чесать, где чешется, и слушать друга, вернувшегося из дальнего путешествия, — сказал Олег. Он очень любил Пруткова.
Они сели рядом на диван, и Григорий закурил, рассматривая Олега, комнату и вообще все. Он очень любил эту комнату. Здесь всегда было хорошо и уютно, хотя и не всегда чисто. И здесь ничего не менялось.
— Ты будешь рассказывать? — осведомился Олег.
— Потом. Дай отдышаться.
— Тогда будем коньяк пить. Сашка! Иди коньяк пить! Ты худой стал, как мощи. Не женился?
— Нет.
— Эх ты, старый хрен. В Испании — и не женился! Смотри, опоздаешь…