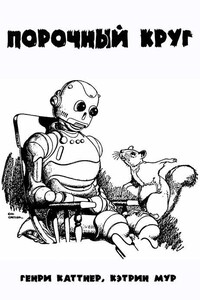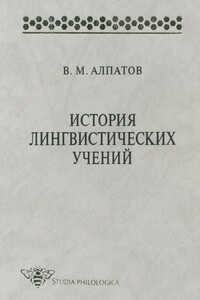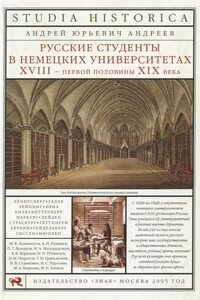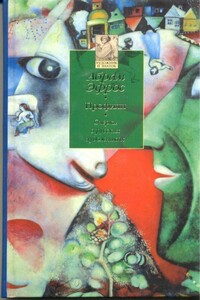На черном песке, один, человек умирал. Траектория, пронзившая вереницу форм и красок, промелькнувшая среди улыбок и прорвавшая зону молчания, вписав непредвиденные извилины в пассивное, бесформенное пространство, которое следовало покорить, как равнодушную женщину; траектория, отмеченная мириадами воспоминаний, как тело бойца в татуировке шрамов, бойца, которому достаточно взглянуть на побелевшую звезду на бедре, чтобы вспомнить топот конских копыт, после которого он уже ничего не помнил, или на красный след на груди, чтобы снова, лицом к лицу, столкнуться с бессмертным оскалом человека, которого он успел убить, прежде чем упасть без сознания; траектория, поглотившая повторяющиеся и неповторимые частицы времени, вобравшая в себя годы-поступки и годы-сожаления; четкая, единственная в своем роде траектория жизни, определившейся теперь раз и навсегда, ставшей вдруг чужой, как нечто внешнее по отношению к нему, подверженное оценке и суду, непоправимо завершенное; траектория его жизни прерывалась здесь, на черном песке, который в горячечном порыве разрывали сейчас его пальцы.
Он лежал на спине, под небом, воспламененным незнакомым ему солнцем. Гул набегающих волн чередовался с моментами неправдоподобной тишины, после которых, коротко всхлипнув, океан вновь обретал свое монотонное, непрерывное дыхание. Там, слева, начинался лес. Неясные шорохи, доносимые ветром, говорили о таинственном движении среди красных стволов, о прыжках, сопровождаемых лихорадочной погоней, о приглушенных криках. А там, дальше, за полосой леса?
Что там? Этого узнать ему не дано. Медленная агония неотвратимо вела его к той минуте, когда он превратится в простой пень, выброшенный на черный пляж, слепой, глухой и неподвижный.
Он хрипло рассмеялся. Его мучила упрямая жажда образов, звуков и движений — последнее, что было ему доступно и что он стремился втянуть в себя, усвоить, связать с другими образами, с другими звуками и движениями, уже присвоенными некогда, ставшими его субстанцией, живой материей мыслей, несших отпечаток его натуры, ставших им самим.
Что ты хочешь делать, когда станешь большим?
Хочу знать.
На кого ты хочешь походить?
На юнгу на мачте, который первым кричит: «Земля!».
Я всю жизнь кричал «Земля!». Каждый мой отъезд был скачком в неизвестное (Агатара… Су… Вердонда… Ксет-Итар…) и каждый раз я кричал «Земля», возвращаясь на землю, и среди людей я был Тем-кто-знает. Я храню в себе невидимое пламя Агатары и многозначно-идентичную красоту существ, населяющих Су, кошмар Вердонды и нечистое нагромождение форм Ксет-Итара. Я семафор, указывающий свободный или закрытый путь, человек-испытатель, берущий на себя первый риск и первую радость, посланец человечества в Космосе и на Земле — провозвестник его открытий. Рев сирен знаменовал каждое мое возвращение, потому что я возвращался с глазами, перед которыми стояли образы, отныне доступные всем, потому что я знал — и все могли узнать от меня. На большой Площади Солнца для меня зажигали яркие огни.
При каждом моем возвращении…
На черном песке, один, человек умирал. Больше он никогда не вернется. Яркий калейдоскоп образов вдруг возникал под его тяжелыми веками и тут же рассыпался в прах. «Когда-нибудь это должно было случиться, — подумал он Когда-нибудь все равно должно было…» Боль еще не мучила его поверженное тело, и мысль о смерти казалась абстрактной, он еще думал о ней, как о смерти кого-то, кто был он сам. Случайной смерти.
Конец означал, во-первых, сожаление о том, кто умирал там, на берегу океана. Умирал напрасно. Он так и думал: напрасная смерть, определяя свою смерть извне. И все же приговор был невыносимо тяжел.
Он открыл глаза. И ощутил горькое чувство человека, уходящего и оставляющего за собой все так, как оно было, неизменным. Незнакомое солнце не сдвинулось с неба, океан дышал также равномерно и тяжко, и лес издавал те же неясные звуки. И тут он впервые ощутил краткость границ своего пребывания под разноцветными солнцами, на бесчисленных берегах, среди бесконечных лесов, которые останутся такими же, не затронутые его уходом. «И все же это я дал им имя», — подумал он. Ведь это благодаря ему они существовали для людей. Всю свою жизнь он очеловечивал далекие планеты. И тут он почувствовал, как сжалось его сердце при мысли, что он не успел дать названия рельефу Тепсоры, ее флоре и фауне. Так и не познав их, он умирал на черном песке, и его вновь мучила вечная жажда образов, звуков и движений. Он не мо гугаснуть, не узнав, чем кишит этот красный лес. «Жизнью», — сказал он громко, сам удивляясь своим словам. Тем самым, что сейчас вытекало из него, капля по капле.
Он попробовал поднять голову, но сверхчеловеческая сила прижала его к песку. Тяжело дыша, он напряг свое тело, ноги. Только руки оставались живыми, только пальцы, которыми он в забвении отчаянно рыл песок. И он понял, что впереди у него — лишь пустые предсмертные часы, часы бессильного и жестокого ожидания. Но словно не отключенная машина на покинутом заводе, мозг его продолжал работать.
«Больше я не могу узнать ничего. Только — дать имя океану…» И лишь сейчас он понял, что все кончается, что это он — человек, агонизирующий на черном пляже, лишь сейчас, когда проникся истиной, спрятанной за произнесенными в уме словами. Ибо не только невозможность познания мира, в котором он потерпел крушение, представилось ему во всей своей неотвратимости, но и его бесцельность. На песке, омываемом океаном, лежал мертвец, от которого никто больше ничего не узнает. Все его сведения — если бы он даже мог еще собрать какие-нибудь сведения — становились ненужными. Ибо были непередаваемы.



![Крестный путь сквозь века [Перекресток столетий, Сквозь века]](/storage/book-covers/72/72f3000a881a849b12bd2a73341feb910e5dad02.jpg)