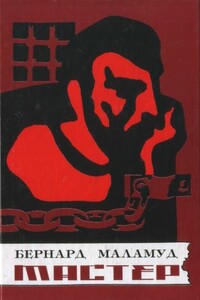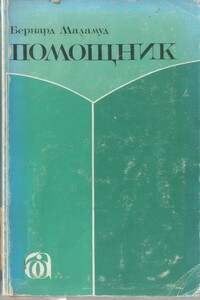Окно было открыто — и птица влетела. Так оно и бывает. Окно открыто — и ты уже внутри, закрыто — остаешься снаружи. Судьба!
Тяжко хлопая крыльями, птица влетела через открытое кухонное окно квартиры Гарри Коэна, что располагалась на верхнем этаже дома на Первой авеню неподалеку от нижнего Ист-Ривера. На стене висела пустая птичья клетка с распахнутой настежь дверцей, однако эта чернявая длинноносая птица — ее встрепанная голова и маленькие тусклые слегка косящие глаза придавали ей сходство с растерянной вороной — села, не сказать — шлепнулась — на стол, и если не прямо на толстую баранью отбивную Коэна, то уж точно вплотную к его тарелке.
Это произошло год назад жарким августовским вечером, когда Коэн, продавец замороженных продуктов, сидел за ужином с женой и маленьким сыном. Они сидели все вместе — сам Коэн, плотный здоровяк с волосатой грудью, одетый в шорты, тесно облегающие мясистые ляжки; его жена Эди в просторных желтых шортах и красной майке, оставляющей открытой спину, и их десятилетний сын Моррис, или Мори по-домашнему — красивый, но не слишком-то смышленый мальчик, — снова в городе после двухнедельного отпуска, который вынуждены были прервать. Дело было в том, что мама Коэна умирала. Они от души радовались отдыху и поездке, но вернулись сразу же, как только Мама почувствовала себя плохо в своей квартирке в Бронксе.
— Прямо на стол, — недовольно сказал Коэн, опуская свой стакан с пивом и отмахиваясь от птицы. — Сукин сын.
— Гарри! — Эди показала глазами на Мори, так и ловившего каждое движение.
— Гевалт, погром!
— Говорящая птица, — изумленно сказала Эди.
— По-еврейски, — заметил Мори.
— Умник, — проворчал Коэн. Он дожевал отбивную, обсосал косточку и бросил ее на тарелку. — Ну, говорящая, давай, говори, что у тебя за дела и что тебе здесь надо?
— Если вы не можете поделиться со мной отбивной, — сказала птица, — то я бы согласился на кусочек копченой селедки с корочкой хлеба. Должно быть, тяжело вам живется с такими нервамиNo
— Так, здесь тебе не ресторан, и все, о чем я спрашиваю, — что привело тебя именно сюда?
— Окно было открыто, — вздохнула птица и через мгновение добавила. — Я убегаю, бегу. Я летаю, но я и бегу.
— От кого? — с интересом спросила Эди.
— Антисемиты.
— Антисемиты? — воскликнули все трое в один голос.
— От них.
— И какие же антисемиты мешают жить птицам? — спросила Эди.
— Разные, — сказала птица, — включая орлов, грифов и ястребов. Да и вороны могут при случае глаза повыклевать.
— А ты не ворона?
— Я еврейская птица.
Коэн от души расхохотался:
— И что ты под этим подразумеваешь?
Птица вдруг забормотала. Она молилась без Книги и талита, но со страстью. Эди склонила голову, Коэн — нет. Мори же раскачивался в такт молитве, посматривая вверх одним широко открытым глазом.
— Без кипы, без филактерий? — заметил Коэн, когда птица замолчала.
— Я старый радикал. Пожалуйста, не могли вы дать мне кусочек селедки с маленькой корочкой хлеба?
Эди встала из-за стола.
— Ты чего? — спросил Коэн.
— Помою тарелки.
Коэн повернулся к птице:
— Может, представишься, если не возражаешь?
— Зовите меня Шварц.
— Он вполне мог быть раньше старым евреем, которого потом превратили в птицу, — сказала Эди, передвигая тарелку.
— Да? — Гарри раскурил сигару и снова повернулся к птице.
— Кто знает? — ответил Шварц. — Разве Б-г говорит нам все?
— А какую ты хочешь селедку? — возбужденный, Мори вскочил ногами на стул.
— Сядь, Мори, или ты упадешь, — приказал Коэн.
— Если у вас нет свежей селедки — матиас, я могу съесть и смальц.
— У нас только маринованная с луком — в банке, — сказала Эди.
— Если бы вы открыли для меня банку, я съел бы и маринованную. А еще, если не возражаете, кусочек ржаного хлеба — «шпиц»?
Эди подумала, что хлеб у них тоже есть.
— Корми его на балконе, — сказал Коэн Эди, а затем птице: — А потом чтобы духу твоего тут не было.
Шварц прикрыл сначала один, затем второй глаз:
— Я устал, и дорога была неблизкой.
— А куда ты держишь путь, на юг или на север?
Шварц пожал плечами, чуть приподняв крылья.
— Ты не знаешь, куда летишь?
— Туда, где еще есть милосердие.
— Пап, пусть он останется, — попросил Мори. — Он же всего-навсего птица.
— Ладно, пусть остается до утра. Но не дольше.
Утром Коэн велел птице убираться, но Мори плакал, и Шварца пока оставили.
— С ним никаких проблем, — говорила Эди Коэну, — да и ест он очень мало.
— Ну, ладно. Но все равно я его видеть не могу. И предупреждаю, что не намерен долго терпеть его здесь.
— Что тебе сделала бедная птица?
— "Бедная птица", как же! Не будь дурой. Хитрый ублюдок, вот он кто. Он думает, что он еврей.
— Г-споди, какая разница что он думает?
— "Еврейская птица", наглость какая! Один неверный шаг — и он потопает отсюда на своих барабанных палочках.
По требованию Коэна Шварц должен был жить на балконе. Он и жил там в новой деревянной клетке, которую купила ему Эди.
— Тысяча благодарностей, — говорил ей Шварц, — хотя я бы, конечно, хотел когда-нибудь иметь человеческую крышу над головой. Вы ведь знаете, каково это в моем возрасте. Я люблю тепло, окна, кухонные запахи. Мне бы хотелось время от времени просматривать "Jewish Morning Journal". А еще хорошо бы иметь иногда капельку шнапса, который, благодаря Б-гу, так полезен моему здоровью. Но, конечно, вы столько даете мне, что не заслужили жалоб.