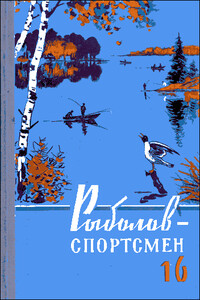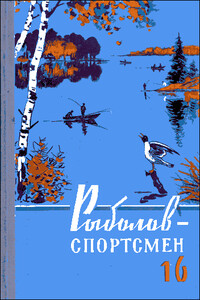Удивительное существо — человек, ежели ко всему прочему есть у него еще и рыбачья страсть. Гнездится она где-то на дне души человечьей, тлеет потихоньку, горит.
На работе, на отдыхе, дома — везде дает она о себе знать. Даже в суровые годы Великой Отечественной войны не раз вспоминали бойцы о родных речных просторах, о рыбалке. И, если вырывалась свободная минута, встречался приятель или незнакомый тебе человек на длинной солдатской дороге, — глядишь, уже вспыхивала и тянулась задушевная беседа. И какие только рыбьи нравы, повадки не припоминались в ней, какие только картины родной русской природы не проходили перед глазами!
А, может быть, в углу кармана выцветшей от пота и соли армейской гимнастерки приткнулся, зацепившись, «на случай», небольшой крючочек, снятый с мальчишеской удочки в одной из пройденных деревень или попросту выпрошенный у какой-нибудь осиротелой старухи.
Поглядит солдат на него, пощупает пальцем, скажет: «Востер бродяга», — и вспомнит свой родной край, свою речку с просторными заводями. Пахнёт на него родным ветерком, и крепче нальется ненавистью к врагу солдатское сердце.
Вот об этом я и хочу рассказать.
Стояли мы тогда километрах в ста двадцати от Саратова, в Вольске, передислоцировавшись из Сталинграда.
Чудный городок Вольск. Стоит он на высокой горе, а внизу — Волга, широкая, привольная. Вытянулась она серебристой лентой и несет медленно и плавно свои могучие воды сквозь зеленые луга и леса вниз к Сталинграду. А там неумолчно грохочут орудия и в шквальном огне горит земля. Внизу с горы — лестница чуть не до воды, не меньше чем в двести ступенек. Лезешь по ней, а сердце так и наколачивает. Под горой, на берегу, — рыбачья слободка. По ночам — тревоги. Налетают самолеты: баржи топят, бензобаки высматривают.
В один из последних дней сентября 1942 года, утром, как сейчас помню, разнес я газеты, побеседовал с бойцами и задержался в одной из палат, где лежали тяжелораненые. Много было тогда всякого рода вопросов, волновавших солдатскую душу.
Попрощался, стал уходить. Останавливает меня боец по фамилии Белов. Лицо у него почти серое, землистое, глаза запали. Ноги в гипсе выше колен и грудь забинтована — штыковое ранение.
— Далеко ли до Волги? — спрашивает и так тоскливо смотрит.
— Нет, — отвечаю, — с километр будет. А что?
Вздохнул он, глаза прикрыл. Молчит. А сосед с противоположной койки шепчет:
— Товарищ политрук, он кажинную ночь Волгой бредит, замучился. Костромич он из какого-то там Чернопенья.
Присел я на краешек койки. Постепенно разговорились. Голос у Белова был глухой, тихий.
— В нутре горит... Напоследок хоть бы на Волгу взглянуть, — языком губы слизывает, — видно, жар.
— Денька через три, — отвечаю я ему, — отправим баржей.
— Эх рыбки бы, ушицы... Может, и полегчало бы.
И такая человеческая тоска слышится в его голосе.
— Да где ты ее сейчас возьмешь? — говорит сосед. — Немец Волгу бомбит, одни бабы в домах остались, да и то старухи.
Ушел я из палаты с тревожным чувством. Хотелось чем-то помочь бойцу, что-то сделать. Я вышел на двор и присел на бревно, лежавшее возле сарая. Здесь и застал меня Иван Акимович Шульга, наш начальник ОВС. Воевали мы с ним на Центральном фронте, а затем попали работать в госпиталь. Хорошей души был человек, но упрям чертовски и с гонором... Сошлись мы с ним с первых же дней. И немалую тут роль, признаться, сыграла рыбачья страсть. Отлично знал он все московские водоемы, особенно восхищался Сенежским озером: «Рыбы там пропасть, сама, дурная, в лодку так и лезет». На рыболовные темы мог говорить часами. И где только, по его словам, не лавливал он рыбу! Словом, выходило, что был он не меньше чем «профессор рыбьих дел».
— Послушай Иван Акимович, — говорю я ему, — душа у тебя рыбачья, а в восьмой палате рыбак лежит, тяжелораненый, рыбы просит. Как бы ему достать?
— Что ж, — с апломбом отвечает Шульга, — в данных условиях это хоть и трудновато, но дело вполне возможное. Меня, скажу тебе по совести, давно тянет... Река рядом, рукой подать. А ловить-то я мастер, сам убедишься!
И уговорились мы вечерком выехать, чтобы вернуться утром. Удочки и лодку решили достать в слободе.
Через полчаса я уже стоял перед комиссаром госпиталя Прониным, невысоким плечистым человеком, на гимнастерке которого поблескивал потертой эмалью орден Боевого Красного Знамени, память гражданской войны.
— Так, так... Говоришь, «душу отвести»?
— Так точно, товарищ комиссар, хоть бы перед смертью, говорит, рыбки, ушицы... ведь рыбак!
— Ну это дудки, — негромко сказал комиссар, — умереть мы ему не дадим, а рыбы действительно неплохо бы достать.
В раскрытое окно комнаты виднеется Волга и ее противоположный лесной берег.
— Я и сам когда-то рыбачил, — задумчиво смотря в окно, продолжал комиссар, и в голосе его послышалась затаенная грусть, — на Оби в Барнауле, мальчишкой... Потом постарел... все некогда... Теперь — война... Ладно, поезжайте. Но утром, к подъему, чтобы в части быть. Да там поосторожней. Ясно?
— Ясно!
И вот часов в восемь вечера были мы уже в рыбачьей слободке. Небольшие деревянные домики крыты дранкой. На заборах невода. Возле одного из домиков мы остановились и постучали в окно.