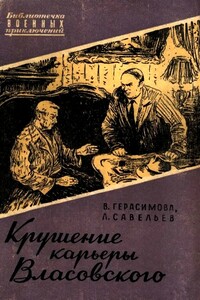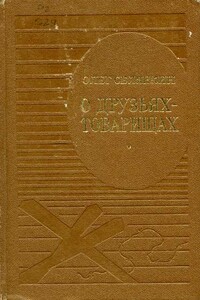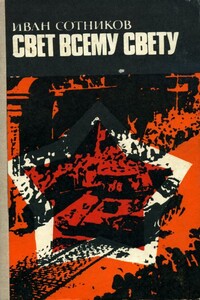Над городом, закрывая солнце, стояло дымное облако.
Еще ночью, километров за сорок отсюда, с берега Днепра, я заметил на юге багровое зарево. Зыбкое, трепещущее, оно исчезало временами совсем и вспыхивало вновь, освещая бесприютную степь своим тусклым, отраженным светом.
Я не задумывался над тем, что это и где горит. Да и мало ли пожаров возникало в заднепровских степях осенью сорок второго года? Я очень устал, мне надо было отдохнуть, на душе у меня было беспокойно, и, выбрав в одной из прибрежных балок место, где никто не застал бы меня врасплох, я сразу заснул.
На следующий день, частью пройдя пешком, частью проехав на скрипучей арбе оставшиеся сорок километров, я приближался к городу. Это был обычный степной город, раскинувшийся на плоском берегу Днепра. Он открылся издали, с высоты пологого холма, открылся темными силуэтами церквей и фабричных зданий, разноцветными халупами окраин, чахлой зеленью садов. Множество пыльных степных дорог, сходясь и снова разбегаясь, неся на себе следы автомобильных покрышек и отпечатки человеческих ног, вело туда, в этот неведомый мне город.
Большой и притихший, настороженный, он лежал на берегу реки; мертвые трубы заводов поднимались над ним, и где-то за домами, невидимый глазу, бушевал пожар.
Расставшись с подвезшим меня стариком, я вошел в форштадт, или военную слободку, как, по словам Быковского, называлась северная часть города. Широкая улица предместья ничем не отличалась от улицы в любом украинском селе. Окруженные глинобитными заборами, кое-где палисадниками с перевернутыми кувшинами на жердинах, белые, голубые, розовые, но одинаково обветшавшие хаты выстроились неровным рядом.
Улицы были совершенно пусты, лишь две — три человеческие тени заметил я в отдалении. Какая-то женщина, сгибаясь под тяжестью плетеной корзины, шмыгнула в один из палисадников; совершенно голый, черный, как негритенок, мальчуган, обеими руками взявшись за свой крантик, орошал раскаленную пыль во дворе другого дома.
Но чем дальше углублялся я в город, приближаясь к его центру, тем оживленнее становились улицы. То здесь, то там раскрывалась калитка, человек подозрительно оглядывался кругом и, прижимая локтем пустой мешок или придерживая корзину, трусил мелкой рысцой к видневшимся вдали фабричным корпусам. Мужчины, женщины, дети — все с мешками, сумками и корзинами — выскальзывали из смежных улиц, а навстречу им двигались другие мужчины, женщины, дети, но мешки их были чем-то наполнены, и их, возвращавшихся откуда-то, было значительно меньше.
Здесь, в предместье, уже отчетливо слышался горький запах гари. Сизая копоть медленно падала на листву деревьев, на стены домов, на лица. И я почувствовал какую-то связь между этой копотью, между пожаром и суетой на улицах.
Я миновал разрушенные корпуса консервного завода, прошел через пыльный, изрытый траншеями сад — в середине его бронзовый человек, подняв обломок шпаги, хмуро разглядывал обвалившийся фонтан — и повернул наконец в узкую улочку, круто спускавшуюся к реке. Над этой улочкой, заполненной идущими вниз людьми, над крышами домов, как по ступенькам, карабкались вверх черные, похожие на породистых баранов, клубы дыма и, сбиваясь в стадо, тянулись над городом.
Восемьдесят километров пути по занятой врагом земле были уже позади, и я приближался к цели. Я представил себе, как через пятнадцать — двадцать минут найду нужный мне дом.
Справа от входа, на третьей жердине будет висеть опрокинутый глечик, подобный тем, какие я видел при входе в город. Это сигнал: «Все в порядке. Можно входить!»
Я спрошу Терещенко. Немолодой, молчаливый человек с упрямым подбородком и спокойными, чуть зеленоватыми глазами, он окинет меня изучающим взглядом.
— У вас сдается комната, — скажу я. — Мне говорил об этом Грохотов.
— Комната? — переспросит Терещенко. — Комната есть, только вряд ли вам подойдет. Темная она.
— А я посмотрю. Главное, чтоб были кровать и стол.
Молча Терещенко пропустит меня в дом. Едва увидев меня, он догадается, почему пришел я, а не Романюк, и ни о чем не спросит. Все сразу становится понятным, когда на явку приходит новый человек.