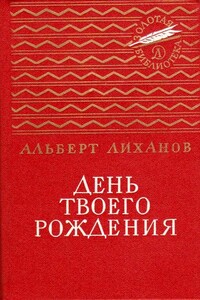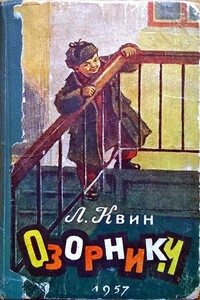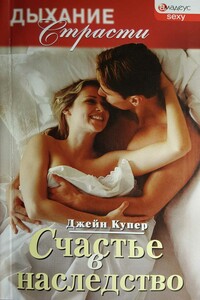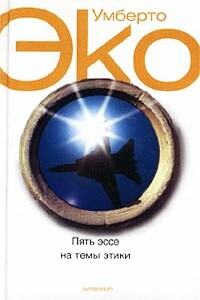Железнодорожный разъезд Лагунок стоял посреди равнины, покрытой мшистыми лишаями, грязными ранками-лужицами да реденьким чахлым кустарником. Рельсы уходили вдаль, до самого неба, как туго натянутые струны.
Егоркиной матери, Анисье Петровне, очень не нравилась такая местность, и она, упоминая господа бога и охая, говорила:
— Проклятущий край, и мы тут все не человеки, а лягушки.
— Зато легко добираться до бога, — отвечал, улыбаясь, Егоркин отец, Тимофей Иванович. — Другим людям, чтобы побывать у него в гостях, надо кружить, взбираться на горы, через леса продираться, а нам, лагунковцам, удобно: иди но шпалам все прямо да прямо — и вот оно, небо.
— Не мели чего не следует, — сердилась мать. — Не можешь подать прошения, чтобы перевели отсюда.
— А куда переводиться-то?
— На другой разъезд — вот куда.
— На такой же или на иной какой?
— Да зачем проситься в этакую же трясину? Аль белый свет клином сошелся? Аль нет на нем мест, где и лес настоящий растет и реки текут, и нет этих окаянных лягушек и комаров?
— Как не быть, есть, — соглашался отец.
— Вот и просись туда. Так прямо и требуй: отработал, мол, я в этой хляби десять лет, а теперь хочу переехать в лучшую местность.
— Так прямо и требовать?
— А то как же? Потом вот еще что можно указать…
И мать начинала давать всякие советы.
Отец так внимательно слушал и усердно поддакивал, что казалось — как только она окончит свои наставления, он сразу же вскочит на ноги и помчится на станцию писать просьбу.
Но так только казалось.
Однажды, терпеливо выслушав мать, отец поинтересовался:
— А тебе какой лес нужен: сосновый, березовый или, может быть, яблоневый?
В другой раз он, с самым серьезным видом, просил у матери ответа:
— Соглашаться или нет, если на том месте, куда нам скажут переезжать, будет не речка, а озеро или море?
А еще как-то сказал:
— Говоришь ты красиво, но вот одного я никак не могу понять, что делать с людьми, которые служат и живут на тех хороших местах, куда мы будем проситься. Уж не перевести ли их на наше место?
После каждого такого ехидного вопроса мать умолкала, а отец вразумлял:
— Пойми и запомни: прошение о переводе на новое, лучшее место подают не на простой, а на золотой бумаге — нужна добрая взятка. А у нас с тобой — ни грошика. Так что успокойся и терпи.
На разъезде, кроме служебного здания — станции, стояли две казармы, путевая будка и длинный-предлинный, врытый наполовину в землю, барак.
В той части служебного здания, которая примыкала к перрону, находились дежурная комната, маленький кабинетик начальника, небольшой пассажирский зал и крохотная кладовочка. В кладовочке ничего не хранилось, в ней ютился одинокий старичок, станционный сторож Платон Назарович. В другой половине здания проживала семья начальника разъезда Павловского.
Казармы располагались на другой стороне линии наискосок от станции. В одной из них размещалось «высшее сословие» — дежурные по станции и дорожный мастер, а в другой квартировало «среднее сословие» — стрелочники.
Будка находилась около входных стрелок. Занимал ее путевой сторож Порфирий Лукич с женой Авдотьей Васильевной — Егоркиной крестной.
Длинный-предлинный барак тянулся рядом с казармой «среднего сословия», а заселяли его путейские рабочие.
Егоркин отец, Тимофей Иванович Климов, работал стрелочником, а поэтому и жил с семьей там, где ему было положено, — в казарме «среднего сословия». Небольшая комната, узенький коридорчик и тесная, как сруб колодца, кладовочка — вот и вся квартира.
Семья у Климова была большая. За двенадцатилетней дочерью Феней выступала целая шеренга мальчишек: Егорка, Мишка, Ванька, Петька, Сережка.
Авдотья Васильевна и Порфирий Лукич, да и другие знакомые, бывая у Климовых, почти всегда заводили разговор о том, как, должно быть, трудно кормить, одевать да обхаживать этакую ораву.
— Не приведи господи, — тяжело вздыхала Анисья Петровна.
Тимофей же Иванович отвечал просто:
— Не легко.
Особенно усердно донимала Анисью Петровну Авдотья Васильевна. Всю климовскую ораву она называла «живой лесенкой», и как только переступала порог, так сразу же начинала:
— «Ступеньки» все здоровы?
Здоровы ли были «ступеньки» или какая-либо из них прихворнула, Авдотья Васильевна не изменяла своей привычке — она усаживалась посредине избы и, покачивая головой, принималась приговаривать:
— И господи ты боже мой! Посмотрю я на вас, и аж сердце кровью обливается, ведь мал-мала меньше…
Егорка не любил слушать крестную — от ее речей на душе становилось нудно, тоскливо — и обычно после слов «мал-мала меньше» старался улизнуть на улицу или заняться какими-нибудь интересными делами дома, но однажды все же решил выслушать ее до конца. Такое желание у него появилось потому, что после предыдущего крестниного посещения между отцом и матерью произошел интересный разговор.
— Не пойму, чего это кума зачастила к тебе с горькими словами, ноет и ноет? — сказал отец.
— Да и мне тоже что-то чудно. Раньше, бывало, хотя она и говорила, но не так как-то, а теперь из-под самого сердца достает; и все про детей, все про детей, — ответила мать и, помолчав немного, добавила: сочувствует…