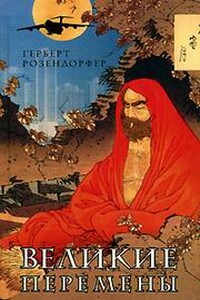Всадник, пробиравшийся сквозь леса к замку ди Шайян, казалось, хорошо знал все тропинки, ибо находил их без всякого труда, хотя первый ранний снег, покрывший всю долину, лишил местность ориентиров. Был этот всадник чужестранцем и выглядел примечательно: черные короткие волосы, черные усы и невероятно черные глаза. Даже самый цвет лица его казался чуточку темнее, чем бывает у жителей долины. Длинный черный плащ с капюшоном, с которого всадник временами стряхивал продолжающий падать снег, подчеркивал таинственность облика.
Звали этого человека Венафро. Впрочем, возможно, имя не было настоящим. О нем вообще ничего нельзя было сказать наверняка, кроме того, что его родословная как-то связана с легендарной красавицей Изабеллой Аквитанской, которая, однако, никогда не бывала в здешних горах, хотя и состояла в довольно близком родстве с маркизами ди Шайян. Но сам Венафро никак не выдавал тайны своего происхождения. Откуда он родом – не знал никто.
Загадочная улыбка – редкая гостья на его губах – вовсе не вязалась с предполагаемыми родственниками-аристократами, знатность происхождения которых была сравнима разве что с непревзойденной свободой их нрава. И действительно, в старинных провансальских хрониках говорилось, что Изабелла Аквитанская, среди множества поистине изумительных вольностей, допущенных ею в жизни и обусловленных красотой и знатностью, пыталась однажды, движимая любовью, размягчить сердце такого выдающегося человека (не слишком, однако, расположенного к плотской любви), как мессере Бернард Клервосский, аббат монастыря. Об этом событии в Аквитании судачили до сих пор, как по причине большой известности Изабеллы, этой поистине выдающейся женщины, так и в связи с весьма странным происшествием, коего она явилась причиной и благодаря коему Бернард снискал, в силу своей непорочной чистоты, титул святого, если не ореол мученика. Поскольку мученичества, возможно, и не было, то университеты Парижа и Саламанки затеяли по этому поводу продолжительную ученую тяжбу. Саламанка стояла за мученичество, ибо считала истинным мученичеством уклонение от любви столь знатной и красивой женщины, какой была Изабелла Аквитанская, пылавшая восторгом и страстью, державшая к тому же своего узника в нежнейших объятиях белых рук. Париж объявил же, что не мученичество сие, но безумие. Однако обратимся к Провансальской хронике[1].
И попался, вправду, в эту западню Бернард в тот день, когда отправился в Аквы Секстиевы, где издавна лечили артриты и ревматизмы теплыми и горячими грязями, способными размягчать жаром суставы, рассасывать наросты и разного рода уплотнения, услаждая живительным теплом члены. Причиной обращения Бернарда к подобным процедурам явились боли в шее, вызванные, по-видимому, его длительным пребыванием в холодной келье за чтением Сенеки и Цицерона, Иеронима-переводчика и Августина, а также Платона, Аристотеля и Плотина. Мучила его также боль в правой руке, которая рождала в нем сильнейший страх, что он не сможет больше писать проповеди, бичующие любителей плотских наслаждений. И только по этой причине в конечном итоге он решился подвергнуться обжигающему лечению, растянувшись нагишом на крошечной кушетке, пока одетые в черное старухи в полной тишине поливали грязями его больные затекшие члены. Как только грязь остывала и затвердевала, они смывали ее чистой ключевой водой. Но послушайте повесть о коварных замыслах и гнусном прельщении злокозненного дьявола. Итак, заметил однажды святой отец, что закутанная в покрывало и одетая в черное женщина не была старухой и сняла с себя покрывало, обнажив смеющееся лицо и влюбленный взгляд. Пока грязь застывала, став в одно мгновение слишком твердой, прекрасная женщина в уста его целовала, заставляя бежать по жилам тот проклятый адский огонь, который он столько раз поносил с амвона. Склоняя увенчанную жемчугами голову над жертвой своего преступления, она накладывала ему на уста, готовые исторгнуть вопль священного негодования, грязь, чтобы святой не смог произнести ни слова. Тогда монах, подобно отважному воину, которому легче умереть, чем отдаться дьяволу, попытался подняться, чтобы избежать прикосновений грешницы; но ее как будто наущал сам нечистый, подсказывая свои ухищрения. Тело его она покрыла не благородной грязью, а презренной известкой, которая, остынув, уже схватилась, сжимая подобно кольчуге его беззащитное перед поруганием тело. Ничего не оставалось ему делать, как только вращать глазами, пылающими священным гневом, пока грешница, согнувшись над ним, алчущими и бесстыдными руками ласкала его твердую и холодную кольчугу. А святой, принимая свое мученичество, уже чувствовал, как разверзлась рана, кое-где разломалась корка и умелая рука воровато посягает на его добродетель и целомудрие. И был готов уже согласиться с мыслию Абеляра, спесивого и грешного брата, который ошибочно проповедовал с кафедры, что согрешить можно одним лишь намерением. Следуя подобной доктрине, он бы не согрешил, так как не имел плотских намерений, когда, одевшись в ничтожное монашеское облачение, явился за облегчением той боли, что покушалась на его занятия. Но образ монаха-соперника уже истаивал, как туман под солнцем, под горячим взглядом этих глаз, которые, казалось, проникали туда, куда нет доступа человеческому взгляду. Ему уже казалось, что грязь размягчается и белая рука сладострастно скользит по обнаженной коже.