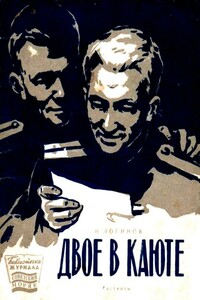Он сидел на гауптвахте вторые сутки и уже успел многое передумать. То бранил себя за норовистый характер, из-за которого не раз попадал в немилость старших, бранил не жалеючи, словно кого-то другого, постороннего. То был наедине с командиром подводной лодки, раскрывал перед ним душу, давал слово комсомольца никогда больше не оступаться. Выходило это убедительно и жалостливо. Капитан-лейтенант, растрогавшись, прощал ему все прежние грехи, говорил, что верит-будет матрос Ермолин настоящим человеком. В эти минуты лицо его становилось умильным, глаза улыбчивыми.
Но стоило вернуться к действительности, как снова настроение портилось. Ведь так дико все вышло! Не совладал с собой, выкинул глупый номер, ершился перед старшиной, будто маленький: «Почему все я?.. Не буду!.. Не хочу!» Капитан-лейтенант, конечно, вправе был осерчать. На, этот раз он ничего не расспрашивал, не укорял, не донимал наставлениями. Слова были резкими, но - что странно - не вызывали возражений;
- Трое суток ареста! Хватит, понянчились!.. Ермолин смотрел себе под ноги, но чувствовал, как жжет ему лицо взгляд командира. Даже сейчас снова вернулось к нему это неприятное чувство. Чтобы избавиться от него, он начал шагать из угла в угол.
И верно - думы сменились. Он попытался представить, чем занята сейчас команда лодки, как там обходятся без него, без трюмного машиниста Ермолина. Ему хотелось увидеть грустные, задумчивые лица, услышать слова сочувствия о себе, но не удавалось. Все были веселы, увлечены работой, никому не было до него дела. Ему стало обидно за их безучастное отношение к его судьбе.
Он сел на табурет и, поставив на колени локти, подпер голову руками. «Хорошо бы побывать сейчас дома, в Сосновке», - подумал он, и мысли перенеслись в родную северную деревню. Всплыла в памяти картина проводов.
…Рядом идет мать. Она предупредительно-нежная, говорит неторопливо, ласково:
- А ты не тоскуй, Саня. Послужишь с годик - на побывку командир отпустит. А то и я наведаюсь…
Он стыдится материнской нежности - сзади идут друзья и, наверно, слышат, как уговаривает его мать, хотя он и не думает печалиться. Наоборот, сердце полнится какой-то большой незнакомой радостью. Он едет на флот, будет военным моряком. Одна форма что значит!
В табунке друзей - та, что люба ему. Он знает: в ее грустных синих глазах наверняка стоят слезинки, готовые вот-вот скатиться по щекам на пыльную дорогу - только обернись он, взгляни на нее.
Мать, словно подслушав думу его, тихонько говорит:
- Тасе-то пиши, не забывай. Скучать она будет по тебе…
- Мама!-останавливает он.
Впереди на колхозной пролетке едет младший братишка Сани - Володя. Он не торопит лошадь, знает, что к поезду успеют.
Выходят за поскотину.
- Остановись, Вовка-а! - кричит мать Володе.
Настает время прощания. Ватага сразу становится шумной. Александр взволнованно глядит на друзей, улыбается…
Улыбка и сейчас скользнула по губам Ермолина. Он спохватился, будто сон стряхнул с себя: «Плакать надо, а ты!..»
Да, минул год, на исходе второй. Многие из его товарищей уже успели побывать в отпусках, а ему и заикнуться нельзя - заказана дорога на побывку к родным. Вот прибавилось еще одно - тяжелое - взыскание… Уснуть бы надолго-надолго, а пробудиться прежним, незапятнанным, без дурной славы, и начать бы всю службу сызнова, по-хорошему. Уж он сумел бы строгим быть к себе!
Опять лицо матери встало перед ним, и голос - добрый, родной - послышался будто наяву:
- Запомни, Саня: платье берегут снову, а честь - смолоду…
Мать в первый раз говорила с ним как со взрослым. Было это вскоре после смерти отца. Сане пришлось тогда оставить восьмой класс, идти на колхозные работы.
Ему сейчас вдруг стало жалко мать. Хлопотунья, труженица, вдова с тремя детьми - много ли знала в жизни радостей! А он еще добавил заботы, тупица, - писать ей даже перестал… Что она только не передумает теперь о нем! Вспомнит своего Саню - пригорюнится, всплакнет украдкой от Володи, от Галинки… Захотелось тотчас же написать матери, приласкать ее, до времени поседевшую, успокоить. А о чем писать? О том, что не заметил, как помаленьку растерял свою матросскую честь? Понапрасну растревожишь только. Если бы самому появиться дома - другое дело…
Принесли обед.
Матрос Огурцов, которого Ермолин почти не знал, подавая обед, заговорщически шепнул ему:
- К тебе мать приехала.
Ермолин с обидой в голосе огрызнулся:
- Еще что соврешь?
Огурцов не ожидал такой неблагодарности и уже равнодушно добавил:
- Не веришь - не надо. А я сам в проходной слышал, как она расспрашивала: «Родимый, скажи, как мне тутока разыскать свово сынка Александра Петровича Ермолина?»
Передавая слова матери, он так подделался под ее голос, что уже нельзя было не верить. У Ермолина побледнело лицо, задрожали губы.
Когда он снова остался один, на него нахлынуло отчаяние. Ребята, чего доброго, уже ляпнули матери - сидит, мол, ваш ненаглядный Саня на запоре… А старшина? Вряд ли упустил он такой удобный случай, чтобы не пожаловаться на непокорного подчиненного. Ермолин ясно представил, как Ржаницын изливает его матери свою накипевшую горечь: «И вырастили же вы, Наталья Никитична, такого поперечного сына. Просто сладу с ним нет. Своего непосредственного командира не слушается, грубит. Дело до большой неприятности дошло. Вам повидать его не терпится, а он, знаете, где коротает время?..» А вдруг ее провели прямо к капитан-лейтенанту?.. Росинки пота выступили на лбу Ермолина. Он рад бы не думать, пускай что будет, но догадки, одна мрачней другой, лезли в голову. Хоть бы не уехала обратно расстроенная, подождала бы… Еще почти двое суток… Как долго!..