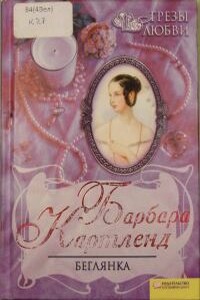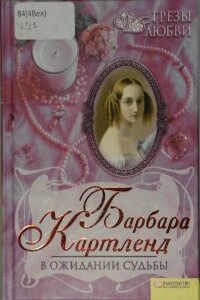ЭДУАРД БУРМАКИН
ДВЕРЬ
Азъ есмь дверь...
Евангелие от Иоанна, 10: 9.
Около полудня прилетел белый голубь. Совсем белый. Таких в нашем дворе не бывало. У нас обыкновенные сизари. А тут ни единого пятнышка, как живой комочек свежего снега.
Он сел на конек крыши нашего дома, на ту его часть, с которой мы хорошо его видели из окон и с балкона.
Не помню, кто первый его заметил и сказал: "Смотрите, какой белый голубь!" И мы все смотрели на него. А он на нас.
Мы ждали известий.
Зазвонил телефон.
Мать теперь не может брать трубку. Я ее схватил, говорил Алеша: "Мы приехали".
Была суета, новый взрыв растерянности и отчаяния. Про голубя забыли. Но тут же и вспомнили. Его не было. Он улетел. И с тех пор уж ни разу не появлялся.
Лидия Васильевна, когда мы приехали к ним и рассказали о голубе, тихим, спокойным и уверенным тоном сказала нам: "Это был Вася. Он прилетел, чтобы сообщить вам всем, что проводил Юлю до дому".
Все-таки проводил...
Если бы можно было поверить в то, что сегодня называют сверхъестественным!
А самое трудное - смириться, признать это судьбой, неизбежностью (хотя было тысяча возможностей избежать). Невозможность примирения невыносима.
Существуют процессы необратимые.
Будь они прокляты!
Мне казалось, что я знаю и чувствую тебя как никто другой. Даже больше матери. Ты же знаешь, как нам было хорошо, когда мы были просто вместе. И почти ни о чем не говорили, а когда произносили отдельные слова, то оказывалось, что мы думали об одном и том же и почти одинаково.
А теперь я со страхом думаю, что, может быть, и я вовсе не знал так хорошо тебя, как мне казалось. И, наверное, в тебе есть такая глубина, которую я не разглядел до дна, а другие, едва приметив ее, просто пугались и отходили в сторону.
Только твой поэт не испугался. Но он все хотел упростить, объяснить необыкновенное обыкновенным. Ему мешал эгоизм, особенный, свойственный только творческим личностям.
А ты была творцом совсем другого рода.
Но все-таки он не испугался.
Сейчас я в растерянности. Зачем я это затеял? Зачем я это пишу? Смогу ли я рассказать о тебе так, чтобы тебя поняли, как я понимал, полюбили, как я любил?
Я все стараюсь представить себе, как летела по неведомой мне, лишь воображаемой, рождаемой в фантазии из отрывочных сведений, но, наверное, действительно прекрасной дороге ваша белая машина, может быть, со стороны походившая на стремительно летящего низко-низко над землей голубя.
Символ мира, чистоты и ангельской кротости...
Но за рулем сидел поэт, а рядом с ним - его друг и тоже поэт. Два поэта на одну суперсовременную машину, мгновенно набирающую скорость, это много, это опасно.
Безумная скорость рождает безумные настроения и нередко не чувство страха, а чувство непонятной радости от такой езды-полета.
А что чувствовала и думала в эти минуты ты? При чем здесь ты? Разве ты можешь отвечать за скорость, за безумную радость двух поэтов?
Нет!
Нет!
"Вполне вероятно, что вера в чудеса, видения, колдовство и иные необыкновенные вещи имеет своим источником главным образом воображение, воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных, поскольку они податливее других. Из них настолько вышибли способность здраво судить, воспользовавшись их легковерием, что им кажется, будто они видят то, чего на деле вовсе не видят" (Монтень).
Я стал верить в чудеса действительно тогда, когда был весьма невежественным подростком. Тут Монтень прав.
Но странно, что эта вера пришла ко мне в самое глухое и страшное время военной зимы, когда одни наши мужчины уже были расстреляны, два других - на фронте, а последний наш мужчина, мой дед по материнской линии, умер весной от сердечной недостаточности.
Воцарились в темном доме на Бурлинской истинный голод и холод. Мы были обречены на медленное вымирание, потому что заработка моей матери не хватало, чтобы прокормить двух старух и трех детей.
К ее приходу с работы мы растапливали одну щелястую печь в кухне и собирались поближе к живому огню. Печь долго выпыхивала едкие дымки, потом разгоралась и даже удовлетворенно гудела. Из щелей прорывался дрожащий свет, и я читал, читал, боясь, что помешают, "Тиля Уленшпигеля". Не могу объяснить даже теперь, почему эта книга так сильно, так вдохновенно и спасительно на меня подействовала. Я так реально, так близко его чувствовал - живого Тиля, и мне так понятны были его слова-клятва: "Пепел стучит в мое сердце!", что я принял как должное, как необходимость чудо, завершающее книгу.
Тогда я и понял, что верю в чудеса.
Как жестоко морозны были полнолунные ночи той зимой!
Иногда среди ночи, сжавшись в комок, пытаясь согреться под наваленным сверху пальто и просто всяким тряпьем, я представлял себе, что настанет утро и - о, чудо! - на улице будет теплая весна. И можно будет выйти раздетым на нагретое солнцем желтое крыльцо и даже присесть на нем и погреться.
И разве не чудо, что мы, оставшиеся, все-таки выжили?
А чудо весны среди зимы тоже случилось много лет спустя...
Это чудо случилось в нашу поездку в Киев.
На Рождество позвонил из Киева Алеша и сказал, что у нас настоящий рождественский мороз, а тут люди в легких плащах и куртках, многие без головных уборов.