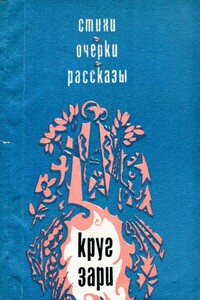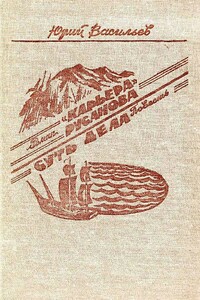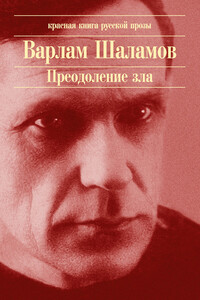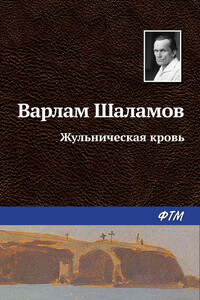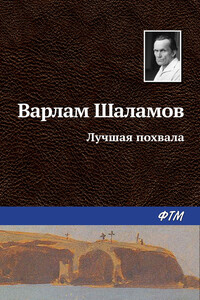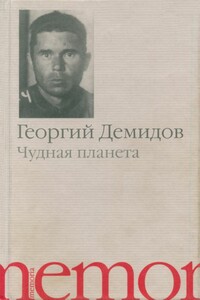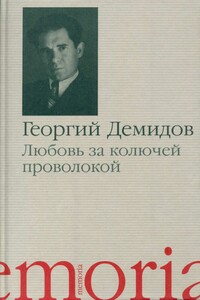Георгий Демидов
ДУБАРЬ
Рассказ
Унылый звон "цынги", куска рельса, подвешенного на углу лагерной вахты, слабо донёсся сквозь бревенчатые стены барака и толстый слой льда на его оконцах. Старик дневальный с трудом поднялся со своего чурбака перед железной печкой и поплёлся между нарами, постукивая по ним кочергой: "Подъём, подъём, мужики!"
...Каждый, кому с крайним нежеланием приходилось подниматься спозаранку, знает, что после такого вставания можно довольно долго двигаться, что-то делать, даже произносить более или менее осмысленные фразы и всё-таки ещё не просыпаться окончательно. В лагере такое состояние повторяется изо дня в день, каждое утро и на протяжении многих лет. В результате вырабатывается еще одна особенность каторжанской психики, во многом и так отличной от психики свободного человека, - способность едва ли не в течение целых часов после подъёма сохранять состояние полусна-полубодрствования. Вольно или невольно заключённые лагерей принудительного труда культивируют в себе эту способность, оттягивая полное пробуждение до крайнего возможного предела. Зимой таким пределом является выход на жестокий мороз. Но в более тёплое время года некоторые лагерники умудряются оставаться в состоянии сомнамбул и на плацу во время развода, и даже на протяжении всего пути до места работы, хотя этот путь нередко измеряется целыми километрами. Это, конечно, своего рода рекорд. Но в той или иной степени таким образом ведут себя все без исключения люди, осужденные на долгий, подневольный и безрадостный труд. Притом даже в том случае, если норма официально дозволенного им ежесуточного сна сама по себе является достаточной.
Вот и сегодня мы привычно сопротивлялись наступлению настоящего бодрствования, не только когда слезали с нар и напяливали на себя свои изодранные и прожжённые у лесных костров ватные доспехи, но даже когда протирали глаза пальцами, слегка смоченными водой из-под рукомойника. Каждый понимал, что с полным пробуждением приходит и отчётливое сознание действительности. А она заключалась в том, что очередной из бесконечной вереницы безликих, каторжных дней уже наступил, хотя сейчас только пять утра. И что он будет продолжаться бесконечно долго, пока около семи вечера мы, до изнеможения усталые, заиндевевшие и окоченевшие на жестоком морозе, снова свалимся в этот барак. И что на протяжении этого дня будет хождение и стояние под конвоем, тяжелая и осточертевшая работа в лесу, окрики и понукания... Что не раз, наверно, посетят горькое чувство бессилия и та злая тоска неволи, от которой захочется завыть и боднуть головой ближайший лиственничный ствол.
Вообще-то в подобных мыслях и настроениях, если судить о них беспристрастно, проявлялась наша чёрная неблагодарность своей лагерной судьбе. Ведь мы находились не в каком-нибудь из страшных лагерей дальстроевского "основного производства", а в лагере, обслуживающем сельское и рыболовецкое хозяйство. Мечте сотен тысяч колымских каторжников, загибавшихся на здешних приисках и рудниках, по условиям труда и быта мало чем отличавшихся от финикийских.
Наша ежедневная утренняя война за сохранение свинцовой притупленности чувств и мыслей и сегодня шла с переменным успехом. Пробежка по морозу в столовую за получением утренней хлебной пайки и миски баланды неизбежно отгоняла благодатное оцепенение. Но до выхода на развод обычно оставалось ещё некоторое время. Уже в полном своем "обмундировании" все мы, как всегда, сгрудились у печки, чтобы запастись теплом на время стояния на плацу. И все, как всегда, стоя уснули.
"Цынга" завякала снова. Идеально дисциплинированные арестанты должны были, согласно лагерному уставу, "вылетать" на развод уже с первым её ударом. Но такие арестанты существуют лишь в воображении составителей этих уставов. Реальные же заключённые даже в свирепых горных лагерях, где за "резину" с выходом из барака можно схлопотать добрый удар дубинкой, эту "резину" тянут. Особенно когда на дворе такой мороз, как сегодня. Судя по фонарям вокруг зоны, едва видным сквозь густой туман, и по колющему ощущению в лёгких, он перевалил сейчас далеко за пятьдесят. Здесь был крайний юг "района особого назначения". "Колымский Крым", как его называли заключённые. Но стоял уже март, время, когда даже в этом "Крыму" солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. Для Дальнего Севера эта поговорка часто оказывается даже более верной, чем для мест, в которых она родилась.
В нашем благодатном лагере дубинка применялась редко, а в руках у теперешнего нарядчика Митьки Савина мы никогда её не видели. Нарядчик, однако, всюду остается нарядчиком. Вот-вот он ворвётся сюда, крепкий, краснорожий парень, и сквозь клубы морозного пара - дверь в барак Митька за собой не закроет - донесётся его знакомое: "А вы тут что, мать вашу так и этак, особого приглашения дожидаетесь?". Но это и будет как раз то ежедневное, "особое приглашение", после которого тянуть "резину" с выходом более нельзя. Оно было здесь почти привычным и обязательным, как звон "цынги", вставание, хождение в столовую за хлебом и это вот унылое стояние у печки.