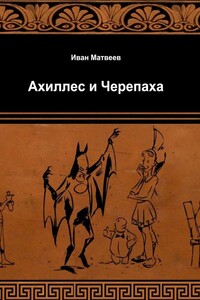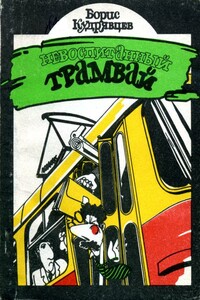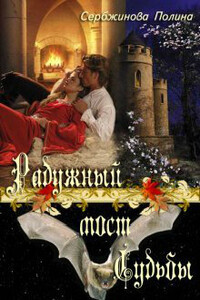Юмор — дар очень редкий и тем более ценный, что «сделаться» юмористом нельзя. Нет ничего более мучительного бессильных потуг на юмор: читаешь и чувствуешь, что автор рассчитывал на смех или хотя бы только на улыбку, а улыбаться нечему, смеяться не над чем, хочется зевнуть, поморщиться и книгу отложить.
Аргус — прирожденный юморист, едва ли не последний у нас оставшийся. Не сатирик, а именно юморист, зорко и пристально вглядывающийся в наше здешнее житье-бытье, все смешное или даже все досадное подмечающий, но к обличению не склонный. Обличение как бы вынесено за скобки его рассказов, набросков, стихов, и относится оно только к тем, кто во имя «бесчеловечного владычества выдумки», — выражение Бориса Пастернака, — создал в России удушающие бытовые условия. Над эмиграцией Аргус не издевается, нет, он разделяет ее надежды и невзгоды, ее бедствия и случайные, мимолетные радости, и пишет о ней, зная, что отклик возникнет сам собой: отклик и благодарность. Сатира вызывает злобу, нередко может быть и оправданную, однако исключающую сочувствие, не говоря уж о любви, — как большей частью у Щедрина. Ответом юмористу бывает именно благодарность, и вечный, великий русский пример этого — Гоголь.
Кстати, с удивлением вспоминаю, что Тэффи упорно отрицала наличие юмора у Гоголя и говорила, что ничего смешного в его книгах не находит. Правда, первые главы «Мертвых душ» навели на печальные размышления и Пушкина. Но Пушкин по-видимому задумался о России, о ее участи, о ее будущем, и например, к незабываемому вступительному разговору о колесе, которое до Москвы может быть и доедет, но до Казани, нет, не доедет, к этому шедевру комической бессмыслицы, внезапная грусть его отношения не имела. Уверен, что тут Пушкин рассмеялся или по крайней мере улыбнулся.
Все русские юмористы — ученики или потомки Гоголя, и Аргус в этом смысле исключения не представляет. Нам, его современникам, писания его дают умственный отдых, позволяют забыться, нас они развлекают, и лишь в редких случаях мы отдаем себе отчет, что за этими обманчиво-поверхностными, легкими, быстрыми зарисовками таится острая психологическая проницательность. Однако в будущем для человека, который поставил бы себе целью изучить и понять, как в течение десятилетий жили русские люди на чужой земле, фельетоны Аргуса окажутся свидетельством и документом незаменимым. Вероятно «будущий историк» над той или иной аргусовской страницей должен будет сказать себе, что кое-что у автора преувеличено: да, в самом деле, преувеличено, утрировано, и не все эмигранты были так наивны, доверчивы или кичливы, не столько было среди нас сантиментальности или бестолковщины, — о чем же тут спорить? Но юмор — это именно увеличительное стекло, наведенное на повседневное существование: оно ничего не искажает, а лишь дает возможность различить то, что иначе прошло бы незамеченным. Иногда, читая Аргуса, я признаться жалел, что он не жил в Париже и что, значит, особенности парижского эмигрантского существования, главным образом довоенного, остались ему неизвестны. Но в сущности разницы мало: Париж или Нью-Йорк остались только оболочкой, за которой видишь и улавливаешь почти то же самое.
Сколько меткости в иных словосочетаниях, сразу запоминающихся, даже если к эмиграции они не относятся! На смену былым нашим «кающимся дворянам» пришли на Западе, пишет Аргус, — «кающиеся капиталисты», и тут, в этой лаконической формуле дан материал для пространного социологического исследования. Или другое, в другом роде: в Советской России царил будто бы не только «культ личности», а и «культ двуличности», царил и удержался до сих пор. Я цитирую почти наудачу, мысленно соглашаясь с Буниным, который утверждал, что «блестящие строки» рассыпаны у Аргуса повсюду. Есть и отдельные рассказы, достойные войти в антологию русского юмора, — например, короткий, в полстранички рассказ «Ведьма».
Особняком в сборнике стоят стихи. Внимательный читатель заметит в них борьбу автора с самим собой: борьбу, т. е. затаенное, более настойчивое, чем на первый взгляд кажется, влечение к лиризму и наперекор ему, вошедшее в привычку, неодолимое стремление иронизировать. Примирить одно с другим трудно. Стихи о «Дне Благодарения», например, по теме своей, по приглушенному своему тону, могли бы стать стихами настоящими, — но как знать, не утратили ли бы они своеобразия, если бы изъять из них словечки подчеркнуто прозаические? Изменить себе, изменить своему творческому стилю Аргус не пожелал, и одинаково пристрастившись и к лиризму, и к иронии, он был и остался в нашей здешней литературе явлением оригинальнейшим.