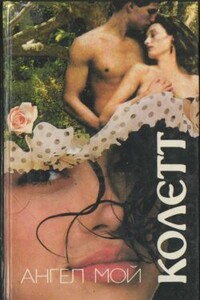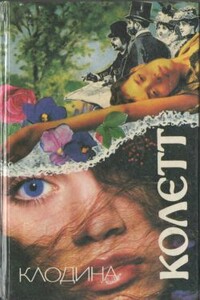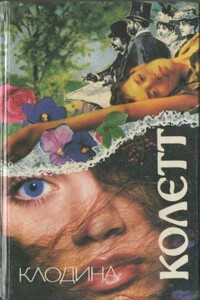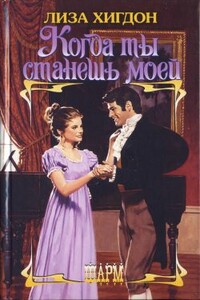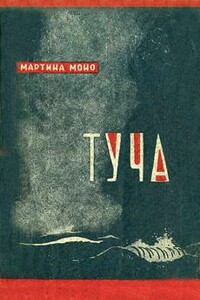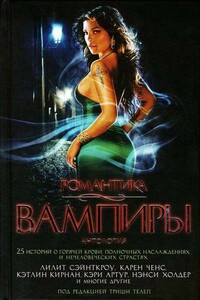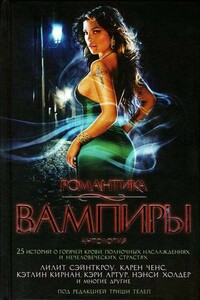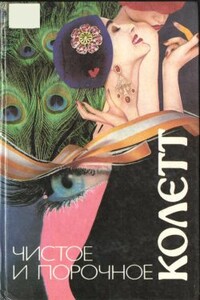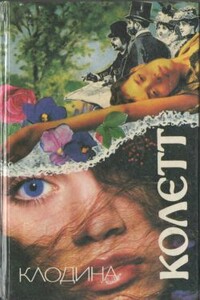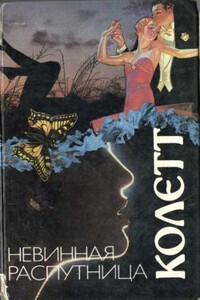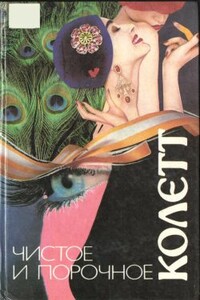Дом был большой, увенчанный высоким чердаком. Из-за крутизны улицы конюшням, каретным сараям, курятникам, прачечной и молочной приходилось ютиться ниже дома: они образовывали нечто вроде закрытого со всех сторон двора.
Мне ничего не стоило, облокотившись о садовую изгородь, поковырять пальцем крышу курятника. Верхний сад господствовал над Нижним – тёмным, душным огородом, засаженным баклажанами, перцем и тому подобным; в июле запах помидорной ботвы смешивался здесь с ароматом абрикосов, вызревших на шпалерах. Верхний сад – две ели-близняшки, ореховое дерево, в чьей непереносимо густой тени не выживал ни один цветок, неухоженные газоны, розы, обветшавшая беседка… Толстая прочная решётка отделяла оба сада от Виноградной улицы и должна была охранять их, но на моей памяти всегда была искорёжена, выдрана из своего бетонного основания и вздёрнута на воздух могучими ручищами столетней глицинии…
Дом смотрел на улицу Богадельни: почерневший фасад с большими окнами, лишённый какой-либо привлекательности, крыльцо со ступеньками по обеим сторонам – обычный буржуазный дом, каких было много в те годы в маленьких городках. Однако его степенности слегка подгаживала крутизна улицы, обрекавшая на колченогость крыльцо, опирающееся с одной стороны на четыре ступени, а с другой – на шесть.
Дверь с колокольчиком, как в сиротском приюте, ворота с засовом, как в старинном остроге, – большой важный дом угрюмого вида улыбался лишь с одной стороны. Невидимая для прохожих задняя его часть была позолочена солнцем, увита глицинией и бегонией: под тяжестью их переплетённых ветвей провисла и стала похожа на гамак старая железная арматура навеса над небольшой, выложенной плиткой террасой и входом в гостиную… Слова бессильны, и вряд ли стоит описывать всё остальное. Мне не передать то великолепие, что являли собой ряды красного осеннего виноградника, гибнущего под тяжестью своего собственного веса и цепляющегося, в надежде спастись, за ветки сосны. Не восстанет благодаря мне из царства тьмы и давно ушедший в небытие раскидистый куст сирени, чья плотная крона, синяя в тени, пурпурная на солнце, рано отцветала, задушенная своим собственным буйством, не воскреснет и леденящий кровь лунный свет – серебро, свинец, ртуть, острые грани аметистов, раняще-режущие сапфиры: цвет менялся, стоило взглянуть на луну через синее стекло беседки в глубине сада.
Дом и сад, я знаю, ещё живы, но что из того, если их покинуло волшебство, если утерян секретный ключик к миру с его светом, запахами, гармонией деревьев и птиц, рокотом человеческих голосов, уже оборванных смертью, – к миру, которого я больше недостойна…
В те годы, когда этот дом и этот сад служили пристанищем для нашей семьи, случалось, книга, раскрытая на плиточном полу террасы или на траве, прыгалки, брошенные на дорожке, или крошечная обложенная камешками клумба с торчащими на ней цветочными головками свидетельствовали о присутствии детей разного возраста. Однако свидетельства эти почти никогда не сопровождались детскими криками или смехом, и жилище, на самом деле наполненное человеческим теплом, странным образом напоминало те дома, что в конце каникул в мгновение ока лишаются всяческой радости. Тишина, потаённое передвижение воздушной массы в замкнутом пространстве сада, страницы книги, взъерошенные невидимыми пальцами сильфа, – всё словно вопрошало: «Где же дети?»
И тогда на террасе, под железным арочным входом, скособоченным на левую сторону из-за навалившейся на него глицинии, появлялась моя мать – небольшого роста, в те времена полненькая, ещё не иссушенная возрастом. Она вглядывалась в плотную зелень, поднимала голову и бросала клич: «Дети! Где же дети?»
Где они? Нигде их нет. Клич её разносился по саду, натыкался на высокую стену сенного сарая и возвращался к ней в виде слабенького и словно изнемогшего эха: «Э-ти-и… э-ти-и…»
Нигде их нет, зови не зови. Мама запрокидывала голову к облакам, словно ей послышался шелест крыльев её детей, спускающихся на землю. Мгновение спустя она вторично издавала свой зов, после чего, устав вопрошать небо, ногтем ломала сухую коробочку мака, соскабливала с розового куста облепившие его зелёные бусинки тли, прятала в карман первую партию вызревших орехов и, покачав головой, с думой об исчезнувших детях возвращалась в дом. А над ней в листве орешника сверкал треугольник детского личика; распластавшись, как котёнок, на толстом суку, ребёнок упорно хранил молчание. Менее близорукая мать углядела бы в учащённых реверансах, которыми обменивались вершины двух сосен-близняшек, нечто не имеющее отношения к октябрьским порывам ветра… А чуть прищурившись, могла бы узреть в квадратном оконце сенного сарая два бледных пятна в сене: лицо мальчика и его книгу. Но она уже давно отказалась от попыток найти нас и отчаялась до нас добраться. Наша прихотливая неугомонность не оглашалась никакими криками. Не думаю, что бывают более непоседливые и вместе с тем тихие дети. Теперь мне это кажется удивительным. Никто не требовал от нас этой деятельной немоты или ограничений в общении друг с другом. Мой девятнадцатилетний брат, конструировавший из спиралек в полотняной обмотке, проволоки и стеклянных трубочек водолечебные аппараты, не мешал своему младшему четырнадцатилетнему брату разбирать ручные часы или безошибочно извлекать из пианино мелодию симфонического концерта, прослушанного в главном городе департамента, или даже получать недоступное пониманию окружающих удовольствие от расстановки по всему саду небольших, вырезанных из картона надгробий с изображёнными на них крестом, именем, эпитафией и генеалогией каждого из предполагаемых усопших… Моя длинноволосая сестра могла сколько душе угодно читать: оба брата проходили мимо, словно не замечая этой зачарованной, отсутствующей девушки, и не беспокоили её. Я, совсем кроха, могла вдоволь чуть не бегом семенить за шагающими размашистым шагом братьями, которые отправлялись в лес на поиски большого Сильвена, Фламбе или свирепого Марса,