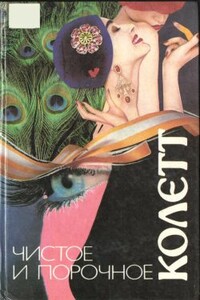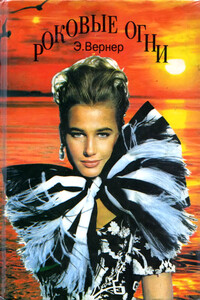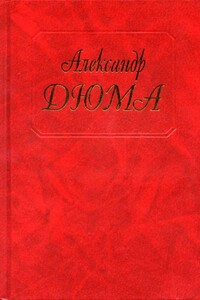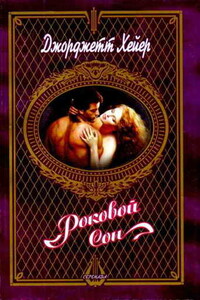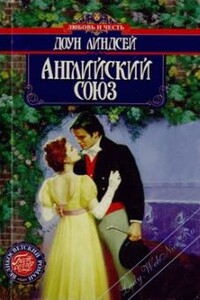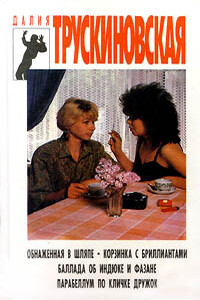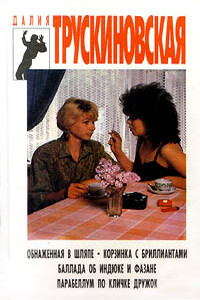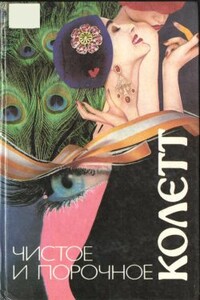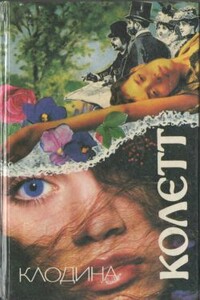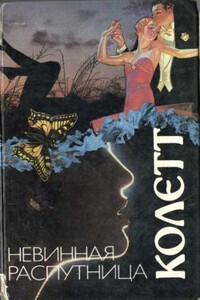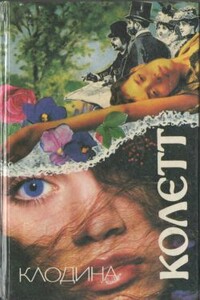К десяти часам участники семейного покера начали выказывать признаки утомления. Камилла боролась с усталостью, как борются с ней в девятнадцать лет: то встряхиваясь и вновь обретая свежесть и ясность, то начиная вдруг зевать, прикрывшись сплетёнными пальцами, – и тут лицо её сразу бледнело, подбородок белел, на щеках проступали под слоем охристой пудры черноватые тени, а на глазах выступали слезинки.
– Камилла, тебе пора в постель!
– Но ведь только десять часов, мама! Кто же ложится спать в десять часов?
Она взглядом искала поддержки у жениха, обмякшего в кресле.
– Оставьте их! – послышался голос другой матери. – Им ещё неделю ждать. Какое уж тут благоразумие?
– Вот именно! Часом больше, часом меньше… Камилла, отправляйся-ка в постель! Да и нам пора.
– Еще неделя! – ахнула Камилла. – Ну да, ведь сегодня понедельник. Совсем вон из головы! Ален, иди сюда! Иди!..
Она швырнула сигарету в сад, закурила другую, разобрала и перетасовала брошенные на столе карты, разложила их по правилам кабалистического искусства.
– Сейчас узнаем, получим ли мы чудненький детский родстер до брачной церемонии. Гляди, Ален! Сам объявился, а заодно – дальняя дорога и важное известие…
– Кто объявился?
– Да родстер, кто ж ещё?
Не отрывая затылка от спинки кресла, Ален повернул голову к распахнутой стеклянной двери, откуда наносило сладким духом шпината и подсыхающей травы, – днём подстригали лужайки. К этим запахам примешивалось медвяное благоухание расцветшей жимолости, мостящейся по стволу высокого усохшего дерева. Тонкое позвякивание известило о том, что старый Эмиль вносит трясущимися руками поднос с сиропами и охлаждённой водой, подававшимися к десяти часам. Камилла поднялась и начала приготавливать напитки.
Последним она с заговорщицким видом подала запотевший стаканчик с питьём своему жениху. Камилла глядела, как он пьёт, и, увидев прижатые к стакану губы, ощутила внезапное волнение. Однако он так устал, что не пожелал разделить её смятение, а лишь слегка пожал её белые пальцы с красными ногтями, забиравшие опорожнённый стаканчик.
– Завтра обедаешь у нас? – вполголоса спросила она.
– Спроси карты.
Камилла отступила, скроила шутовскую рожицу:
– Не выдержать двадцать четыре часа! Терпеть при этом скрещённые ножи,[1] дырявые монетки,[2] звуковое кино, Боже мой…
– Камилла!
– Прости, мама… Но над этим не шутят! Гадание на сутки. Славный человек, услужливый и расторопный вестник в чёрном, пиковый валет, которому вечно не терпится…
– Не терпится чего?
– Поговорить, разумеется! Ведь ему известно, что случится в ближайшие сутки, даже двое. А если положить по две лишние карты справа и слева, он подскажет события ближайшей недели…
Она частила скороговоркой, соскабливая острым кончиком ногтя присохшие в углах рта натёки губной помады. Ален внимал ей без скуки и без снисхождения. Они были знакомы уже много лет и он знал, чего она стоит по меркам современных девушек. Знал, что она слишком быстро и слишком хорошо водит машину, замечая при этом решительно всё; что с её ярких губ всегда готово слететь крепкое словцо, предназначенное какому-нибудь водителю такси; что она лжёт не краснея, как лгут одни дети и подростки; что может обмануть родителей, чтобы потанцевать с ним после ужина «в каком-нибудь кабачке», где они пили, правда, один апельсиновый сок, потому что Ален не любил спиртное.
Еще до помолвки она дала ему вкусить не раз – как при дневном свете, так и в темноте – свои предусмотрительно вытертые сочные губы, свои вполне заурядные груди, неизменно заключённые в двойную оболочку из кружевного тюля, и свои дивные ноги, облитые безупречными, тайно приобретаемыми чулками, «как от Мистенгетта. Осторожнее с чулками, Ален!» Самое красивое, что у неё было, – это чулки и ноги…
«Она хороша, – рассуждал Ален, – оттого, что в ней нет ни одной некрасивой черты; оттого, что волосы её – ровного чёрного цвета, что блеск её глаз прекрасно сочетается с её чистыми, всегда вымытыми и напомаженными волосами цвета клавиш новенького пианино». Но он знал также, что она способна на резкость и непостоянна, как горная река.
Она продолжала разговор о родстере:
– Нет-нет, папа! Чтобы Ален сел за руль, когда поедем через Швейцарию? Исключено! Он слишком рассеян да, в сущности, не очень-то любит водить. Уж я его знаю!
«Она меня знает – повторил Ален про себя. – Верно, ей так кажется. Да я сам столько раз твердил ей: "Уж я тебя, детка, знаю!" Саха тоже знает её. Кстати, куда это Саха запропастилась?»
Он поискал кошку глазами, с усилием оторвался от кресла – сначала одно, потом другое плечо, затем спина и, наконец, седалище – и расслабленно сошёл с пятиступенного крыльца.
Обширный сад в окружении других садов дышал в ночи густыми запахами возделанной, обильно удобренной, непрестанно побуждаемой к плодородию земли.
Дом мало изменился за время, минувшее с рождения Алена. «Дом единственного сына», – любила повторять Камилла, не скрывавшая своего презрения к сотовой кровле, к вставленным в скат шиферной крыши окнам верхнего этажа, как, впрочем, и к скромным лепным украшениям по сторонам стеклянных дверей первого этажа. Казалось, сад, как и Камилла, презирает дом. Высоченные вязы, с которых сыпались почернелые сучочки – так бывает всегда, когда деревья этой породы достигают почтенного возраста – прятали его от взоров и соседа, и прохожего. Поодаль, на продающемся участке, как и во дворе лицея, можно было ещё видеть растущие попарно старые вязы, которыми были обсажены четыре подъездные аллеи существовавшего здесь некогда поместья, – последние остатки парка, пожираемого современным Нёйи.