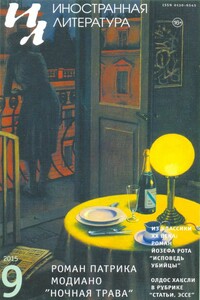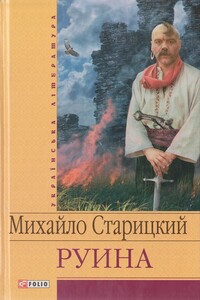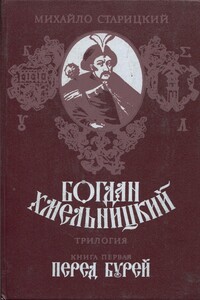Только что сгустились сумерки над затерявшимся в глухой балке селом; мокрый, лопастый снег закрывает белесоватою пеленой покосившиеся и потонувшие в грязных сугробах хатки. Стояли они беспомощно и угрюмо, как нежилые пустки, неотогретые приветливым огоньком очагов, хотя в воздухе и слышится гарь от навоза. Глухо и пустынно кругом: ни лая собаки, ни человеческого говора — словно все вымерли или уснули непробудным сном. Только в крайней хатке, почти вросшей в землю, сквозь залепленные снегом оконца тускло мелькают красноватые пятна. В ней за убогим столом сидят две женщины: одна молодая, с бледным, измученным лицом, с темными красивыми глазами, в которых застыло выражение какой-то безнадежной муки, а другая — старуха. Слабый свет от каганца, стоящего на карнизе печки, освещает только середину хаты и отбрасывает от этих двух женщин неуклюжие, расплывающиеся тени по стене и потолку; в углах же хаты стоит мрак. Тут же, возле молодой женщины, лежит на полу[1], на грубых подушках, прикрытый рядном четырехлетний ребенок; по разметанной позе, по пылающему личику, по тяжелому дыханию видно, что он лежит в тяжком забытьи.
— Что мне начать в свете божьем, куда броситься — и ума не приложу! — говорит тихим, дрожащим голосом молодица. — Один ведь он у меня, бабусю, как сердце одно… Что его отнять — что сердце из груди вырвать!
Глаза у молодой матери полные слез, но они не набегают на длинные изогнутые ресницы, а только блестящей поволокой покрывают зрачки.
Старуха подперла морщинистую щеку ладонью и, облокотясь локтем на другую руку, качает головой, повторяя уныло:
— Кто-то сглазил тебе сынка твоего, дочко.
— Да кто бы? Никому я, кажись, зла не учинила… Вот разве Ткачиха?.. Так, так, она!.. Никто, как она!.. Приходила занять творогу, а у меня его осталось с горсть, не больше; ну, и пожалела я, правда… Думка была побаловать своего Ивасика вареничком, — а она аж зашипела, так разъярилась: хлопнула дверьми и крикнула: "Ой, смотри, чтоб эти вареники тебе боком не вылезли!"
— Ну, вот видишь… Только с чего бы это она по сыр пришла, ведь у них же была своя корова?
— Ой, лелечко! Да хиба и у нас не было? Дак ведь горе-то какое сталось! — даже оживилась молодица при воспоминании об этом горе. — Пала корова у Бублия, а потом еще через неделю подохли бычки и Свырида… Ну что ж? Ничего и дивного нет. Господь нас наказал пашей… Как пошли дожди день у день, и сено погнило, и солома на корню почернела!
— Ох, ох! — вздохнула старуха. — И у нас на хуторе просветлой годинки не было… Только вот что у нас бугры.
— Ну, а у нас низы… Пошли к осени недостатки, начался голод… Много за харчи пошло служить… а тут и скотинка от бескормицы стала болеть. Ну, собрали сход, дали знать старосте, чтоб по начальству — помощь какую: либо деньгами, либо из запасного магазина… Так их сюда и налетела целая свора: и земский, и веринар, да еще земский рвач.
— Какой такой рвач? — всплеснула старуха руками. — Что ж он грабит, что ли, рвет все, что его так дразнят?
— А как же, бабуся! Грабит… оттого так и бранят. Ну, вот наехали, пошли по хатам, по хлевам… с этим рвачом-то, чтоб ему пусто было, осматривают скотину. Кричит этот рвач: "Сибирная скотина!" Чи ее нужно забрать в Сибирь, чи в резницы, кто их ведает?.. Согнали это разную скотину к шинку, — говорят, хворая… Ревет она ревом — беду чует, а и бабы голосят, детвора кричит… Такой сум да плач! Хозяева было вздумали не давать, так начальник кричал, что, мол, дурные вы хохлы, вам за ваш скот заплатят, а хворых нужно палить.
— Ну, ну? — вся обратилась в слух старуха. — Мы вот и не слыхали про такое.
— Что ж, поплакали, поломали руки, а скотинку отдали, потому — порядок! Так ее и погнали. Здоровых коров по-ихнему оказалось только две, да и то яловые… Наше волостное начальство за скотинкой пошло, ну и жиды… Кто их знает, откуда и взялись!
— Ой, господи! Так вы все так и остались без вола, без коровушки?
— Ани рога!.. Да и денег не шлют еще. Все говорят в волости — жди да пожди, покамест бумага придет… А мы ждали, да и жданки поели… Вот в ту самую пору Ткачиха и скажи мне такое слово. Что ж бы вы думали? На другой день, вот на этой неделе в четверток, встал мой Ивась свеженький, как огурчик, и отпросился на скобзалку, что возле Ткачихи. Ну, вечером приходит — мокрый… Говорит, что толкнули его в корыто с водой. А к утру у него огневица — так и пышет… Жалуется все на горло… Чего-то я ни делала — бураки клала к вискам, запаривала шейку ему, горшок на животик скидала, поила крещенскою водой — ничего не помогает, все мечется, стонет, царапает себе горло ручонками. Вот послала чоловика к старосте, чтобы до дохтора знать бы дал, либо что.
— Ох, донечка моя! — закачала отрицательно головой старушка. — Спаси тебя Христос, не допущай дохтора: ведь это через них и пошла хворость на детей, — они, они напустили!.. Так и зовется хворость "дохторит"[2], так и косит детвору, так и косит!
— Ой, боженьку мой! — забилась молодица в испуге. — Так и есть, так староста и сказывал… что если, говорит, дохторит, так чтоб сейчас беспременно до доктора, потому, выходит, эпитемия.