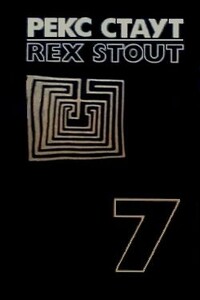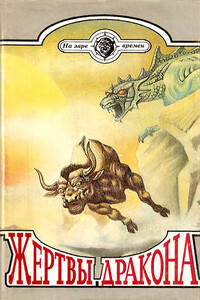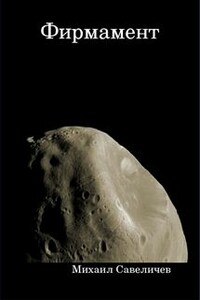В Начале был Заговор: силы бытия против сил небытия, силы творения против сил покоя.
Их было трое, и это предопределило неотвратимость Заговора: двое должны были объединиться против третьего.
Они были единым целым, и это предопределило необходимость предательства: удар должен был быть внезапным и безжалостным.
Они были абсолютом, и это предопределило, что кому-то предстояло стать жертвой, из которой и возникнет бесконечность.
Они были обречены на потери.
Тот, кто много позже возьмет себе имя Итиро, лишился сердца.
Та, кто много позже получит имя Никки-химэ, лишилась глаз.
То, что оставалось безымянным, плавало в океане собственной крови. Оно еще не было мертво, но кровь истекала их ран, превращаясь в душу и свет мира, аниму, основу всего, что будет создано.
Абсолют исчез, породив бесконечность космоса, бесконечность живого и бесконечность разумного.
Шестьсот тысяч душ было создано, шестьсот тысяч сфирот совершали круговращение, вселяясь в тела рождавшихся и покидая тела умерших.
И прежде был сотворен Адам Кадмон - изначальное существо, семя, из которого проросло древо Человека.
Но лежащее в основе мира преступление постепенно разъедало созданную бесконечность, подтачивало мироздание, и вот уже угасал свет, уходило в никуда щедрое море творения, отступало от своих берегов, оставляя после себя лишь техиру - ничто, иссохшую землю, потерявшую цель и смысл существования.
Мир старел и умирал. Старел и умирал. Крошился, словно древний глиняный кувшин, рассыпался на клиппоты - осколки того, что только казалось реальностью, но было лишь сном.
Требовалось вдохнуть в него новую жизнь или... или дать ему умереть.
Теперь их оставалось двое - Бессердечный Принц и Слепая Принцесса.
Чаши весов, на которых взвешивалась дальнейшая судьба мира, уравновесились.
Поэтому был необходим новый Заговор - друг против друга.
АВЕЛЬ
1
- Сейчас не время и не место об этом говорить, - заметил отец, в очередной раз доставая из кармана плаща так и не распечатанную пачку ароматических палочек.
- Я беспокоюсь, - голос мамы, сухой, скрипучий, чужой и пугающий. - Ты слишком занятый человек. Для тебя работа - и жена, и ребенок...
Даже отвернувшись к стеклу, Сэцуке хорошо представляет их лица. Увядшая роза - это мама, звенящий стылыми листьями лавр - папа. Два чуждых друг другу растения на пороге долгой зимы.
- Если бы не моя работа, то ты...
- Говори, говори, - скрип нарастает, как будто голосовой процессор начинает искрить от волнения. А возможно, так оно и есть.
"Мама, перестань", - говорит своему отражению Сэцуке, ежится и крепче прижимает Эдварда к груди. Тот недовольно шевелится, двигает лапами.
- Ты хочешь сказать, что если бы не твоя работа, то мне не хватило бы денег на операцию, а ты не смог бы взять на это время дочь к себе?
Это не мамины слова, думает Сэцуке. Скользкие, ядовитые. Змеи, а не слова. Они могут ужалить.
"Мама, перестань".
Слова переполняют горло, раздувают щеки, хочется повернуться, топнуть ногой и... и... закричать, заорать, заплакать, зареветь... Разве она не имеет право быть капризной?! Нет, не имеет. Потому что в горле поселилась льдинка. У мамы - голосовой процессор, а у нее - голосовая льдинка. Мама теперь может разговаривать, она теперь может молчать.
- Ты не права, - говорит отец и наконец-то разжигает ароматическую палочку. Пахнет имбирем. - Ты всегда была не права.
У него тоже в горле процессор? Как интересно! Вся семья Тикун разговаривает не своими голосами. И чужими словами. Хотя, говорили ли они когда-нибудь своими словами?
"Пусти", - жалуется Эдвард. Но Сэцуке еще крепче прижимает медведя к себе. Эдвард тоже говорит не своим голосом, потому что плюшевые медведи вообще не умеют разговаривать.
"Я умею", - возражает Эдвард.
Линия смерти делит стартовую площадку аэропорта на две равные половины. Мир анимы и мир техиру - две цветовые гаммы, две клавиши, да и нет, печаль и радость. Колоссальные туши дирижаблей, как неповоротливые древние киты, по недоразумению вытащенные из океана и распятые в воздухе на причальных мачтах, медленно ворочаются в густой синеве дождя. На каком из них полетит она с папой?
- Да, мне никогда не хватало твоей правоты, - говорит мама, и в ее механическом голосе внезапно слышится такая горечь, что Сэцуке хочет отвернуться от окна, подбежать к ней, обнять. Как маленькая... В четырнадцать лет необходимо уметь сдерживать чувства.
"Ты это умеешь", - успокаивает Эдвард.
В четырнадцать лет стыдно таскаться повсюду с плюшевым медведем.
"Я - не плюшевый медведь", - возражает Эдвард.
Ну вот, у них тоже ссора. Семейная.
Беспокойные огни прожекторов наконец-то прекращают свои метания и высвечивают нечто громоздкое, темное, угрожающее. Воздушный кашалот, решивший нырнуть в глубь мир-города в поисках кальмаров. Что им рассказывали в школе о кашалотах? А о кальмарах? Сколько ненужной информации о том, чего уже нет...
Гигантское туловище погружается в аниму и начинает сверкать, словно редкая драгоценность, словно ограненный аквамарин, падающий в потоке солнечного света на дно моря... А что такое аквамарин? А что такое солнечный свет? Наверное, это было описано в какой-нибудь книжке. Мама любит... любила покупать ей странные книжки. Все книги - странные, если подумать.