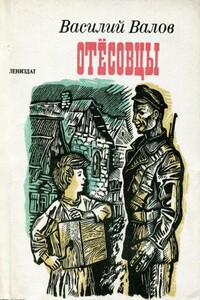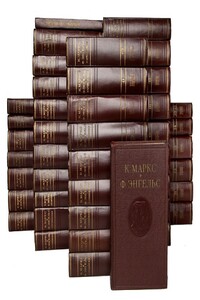Мои родители всегда на стороне учительниц, и потому я сразу же после школы пошла к господину Клейнерцу, который живет напротив нас, и все ему рассказала.
Господин Клейнерц очень старый, ему по крайней мере сорок лет. Жены у господина Клейнерца сейчас нет, она ушла от него. Мама говорит, что этого он уж никак не заслужил, тем более что жена наделала напоследок долгов на его имя.
Мне разрешается ходить в его сад. Там из гнезд иногда выпадают птенчики. Мы их растим и ухаживаем за ними, но они почти всегда умирают от ушибов и еще потому, что скучают без родителей. Они пищат до тех пор, пока не умрут. Ужасно жалко этих маленьких птичек! Недавно нам удалось выходить дрозда.
Я всегда советуюсь с господином Клейнерцем. Папа тоже часто спрашивает его о налогах. Господин Клейнерц не раз говорил мне: «Человек должен быть добрым, но все же не должен допускать, чтобы его оставляли в дураках». Я ему все рассказала про фрейлейн Шервельбейн, и в субботу, когда будут похороны, он пригласит к себе моих родителей и тетю Милли тоже, чтобы они не могли пойти на Мелатенское кладбище смотреть похороны и не увидели, что из всей школы не участвую в них одна я.
Я сама не знаю, как и почему все это случилось. В тот день я не успела на трамвай, да и вообще я всегда опаздываю в школу. Еще в коридоре я удивилась, услышав в классе шум, потому что было уже десять минут девятого. –В классе еще не было учительницы, и я тоже немножечко пошумела, но совсем чуточку. Я бросила противной Траутхен Мейзер несколько репейников в волосы. Мне всегда приходится носить с собой репейники, потому что эта Траутхен все время ябедничает на меня. Ей не разрешают водиться со мной из-за того, что мы с ее матерью непримиримые враги.
Моя подруга Элли Пукбаум громко смеялась, а Траутхен визжала, и в это время вошла фрейлейн Кноль, наша классная руководительница. Все стихли, волосы у Траутхен были полны репейников, а глаза у фрейлейн Кноль были красные. Я так испугалась, будто меня проткнули насквозь ножом, а потом меня бросило в жар, и мне стало как-то не по себе оттого, что фрейлейн Кноль вдруг заплакала. Не могу смотреть, когда взрослые плачут: это значит, что происходит что-то ужасное, потому'что обычно они почти никогда не плачут.
Нос у фрейлейн Кноль покраснел и распух, и голос тоже: «Дети, произошло огромное несчастье – наша любимая директриса, наша всеми бесконечно уважаемая фрейлейн Шервельбейн скончалась». И она шмыгнула носом, чего мне никогда не разрешают делать за столом. Сначала все затихли. А потом некоторые дети уронили руки на парты, опустили головы и заревели во весь голос. У Траутхен, сидевшей передо мной, тряслись плечи, и репейники в ее волосах тоже дрожали.
«Дети, бедные дети,– сказала фрейлейн Кноль,– не надо так отчаиваться»,– и всхлипнула. Это было ужасно. Мне тоже захотелось что-нибудь сделать. Я подняла руку и спросила: «А отчего, собственно, она умерла?» Я часто слышала, что в таких случаях спрашивают именно так. Честное слово, я не хотела сказать ничего дурного. Но фрейлейн Кноль сейчас же заявила, что я черствый ребенок, раз я не плачу, и что мне лучше было бы подумать о том, что я больше никогда в жизни не увижу фрейлейн Шервельбейн. «Дети, вы чувствуете сейчас величие смерти, никогда больше вы не увидите фрейлейн Шервельбейн». Тогда некоторые дети опять громко, на весь класс, зарыдали. Руки мои покрылись гусиной кожей, и я смогла только тихо сказать: «Но ведь я ее вообще никогда не видела». И это действительно правда. Потому что мы только еще переходим в третий класс, а фрейлейн Шервельбейн была ужасно старая и очень долго болела, поэтому мы знаем только ее заместительницу – фрейлейн Шней. Из нас одна Элли видела фрейлейн Шервельбейн и рассказывала, будто та шла, опираясь на палку. У нее были стеклянные глаза, и она трясла головой.
Я вспомнила про нашу белку, которая тоже умерла. Она была такая же красивая, как чудесный зверь в моей книжке с цветными картинками. Она была веселая и занималась гимнастикой у меня на голове, но однажды утром вдруг умерла, потому что съела чернильный карандаш с папиного письменного стола. После этого я тоже ходила как неживая. А квартира наша совсем переменилась, все вокруг казалось мне плохим.
Подумала я и о Лаппес Марьен, которая собирает тряпье: она тоже ужасно старая и трясет головой. Вспомнила и о том, что мы ее всегда защищаем, с тех пор как Хенсхен Лаке основал шайку неистовых бандитов. Когда я подумала о своей белке и о том, что Лаппес Марьен тоже, может быть, скоро умрет, я чуть-чуть не заплакала, но в этот момент фрейлейн Кноль крикнула: «Стыдись, дитя мое!» Мне велено было стыдиться и осознать свой проступок. И тут же она спросила: «Ну что, теперь тебе стыдно? Тебе грустно?»
Все дети перестали рыдать. Они смотрели на меня и тяжело дышали. Я обещала маме никогда больше не допускать, чтобы в меня вселялся злой бес. Но когда все они так противно уставились на меня, этот бес все же вселился, и мне показалось, что так и должно быть. Я стала топать ногами и кричать: «Мне вовсе не стыдно, вовсе не грустно, вовсе не стыдно!»