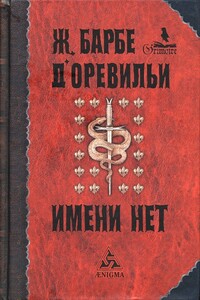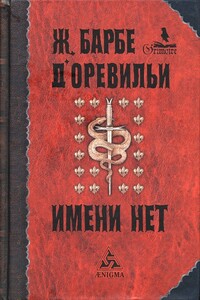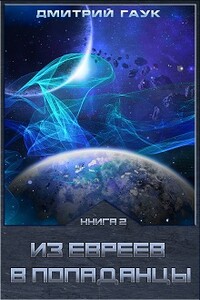Шато Алекса Мендеса было врезано в белую скалу из осадочных пород, возвышающуюся над прованской деревушкой к юго-востоку от Авиньона. Жители покинули это селение еще в девятнадцатом веке, и почти все домишки, исключая разве что несколько строений вокруг старого рынка, развалились и восстановлению не подлежали. Над башнями шато высился скелетообразный гребень — между изъеденными временем камнями росла ежевика и еще какие-то редкие колючие кусты. Камни для постройки замка в свое время собрали в этих же местах со скудной природой. Суровый угловатый контур замка на фоне ясного неба казался черным силуэтом. Дорога к массивным железным воротам спускалась по склону мимо олив, редких виноградных лоз, дикой спаржи и целого поля лаванды.
Вся эта местность имела кровавую историю. Тобайас Ансел, адвокат Мендеса, благоразумно включил это обстоятельство в перечень причин, по которым, как он полагал, приобретать замок не стоило. В саду среди каменных глыб, напоминавших не до конца извлеченные из земли археологические находки, находился высохший колодец — место нескольких злодеяний, получивших печальную известность. Были они, разумеется, скромнее по масштабам, чем сожжение в Лангедоке всех прокаженных в 1321 году или чем резня евреев в Нарбонне и Каркассоне, однако и рассказы о местных событиях люди передавали из уст в уста с тревогой. Во время чумной эпидемии изгнанные из местной церкви флагелланты[1], собравшись в круг у этого колодца, совершали свои обряды и в неистовстве забили насмерть кожаными бичами нескольких евреев, которых намеревались насильно обратить в христианство. Позже на этом же месте разгоряченная толпа кающихся, по наущению своего предводителя, в ожесточении разорвала на части прибывшего из Авиньона папского посланника, который обратился к ним со словами укоризны.
Но Мендес не придал этим историям значения.
— Вся Европа пропахла кровью, — сказал он.
— Но с точки зрения вложения денег… — начал Тобайас Ансел, прорвав носком ботинка строй гигантских муравьев, выползавших из расселины в каменной стене.
— Полное безрассудство, — согласился Мендес.
— Вот именно. И ты это признаешь.
— Да, признаю, — сказал Мендес. — И что с того?
— А Лялька?
— Ах, милый мой англичанин, — голос Мендеса звучал снисходительно, — взгляни на эти каменистые garrigues[2]. Кого здесь ублажать? По-твоему, я буду меньше привлекать внимание в Сен-Тропезе? Или, может быть, в Англии? Скажем, купив несколько акров леса на юго-западе? Скажи лучше, где твои фламандские предки схоронили свое мастерство огранки алмазов, чтобы ты смог отправиться в Уинчестер и Оксфорд?
Мендес стоял, широко расставив ноги и уперев руки в бока, голубая тенниска прилипла к ключицам и все еще мощным плечам. Лоб переходил в блестящую веснушчатую лысину, образуя овал, над ушами курчавились остатки каштановых волос. Привлекательное лицо Алекса казалось грубоватым, а то и жестким, но стоило ему снять темные очки, как миру открывались неожиданно большие и печальные карие глаза.
Мендес улыбнулся, прекрасно понимая, почему у Ансела непроизвольно чуть-чуть расширились ноздри, когда он упомянул Ляльку. Она всегда смущала Тобайаса. В ее присутствии ему становилось не по себе. При встрече бедняга Тобайас, который не терпел ничьих прикосновений и сам избегал кого-нибудь касаться, — и Ляльке, похоже, это было прекрасно известно, — не знал, как уклониться от объятий, а она прижимала его к белой открытой взгляду груди, и он оказывался в плену ее источающих запах мускуса волос. Ей нравилось его мучить.
— Думаю, она предпочтет остаться на Чейни-уок[3], — сказал Алекс с ноткой грусти. И тут же представил Ляльку на фоне зеленого бархата любимого кресла. «С какой стати ей оттуда уезжать? И сейчас? Красивая смелая женщина, — размышлял Мендес, — его бывшая жена. Она разве только губы чересчур плотно сожмет, когда черные глаза будут читать мелкий шрифт на документе о разделе имущества».
Он помнил, что во время их последнего визита в ее комнате стоял запах свежих лимонов. А Тобайас беспокойно ходил взад-вперед и раздувал ноздри. Мендес знал причину. Ансела тревожило нечто большее, чем аромат сексуальности, источаемый зрелой женщиной. Польша, вот в чем было дело, это пространство, где хозяйничала смерть, — вот что чуял Тобайас. Мертвецы и умирающие повсюду. Хватают воздух в густой грязи шахтных стволов и тоннелей; дрожат в сточных канавах, забитых жидкой глиной; лежат в грудах пепла, засыпанные известью; заполняют товарные вагоны и просто валяются вдоль заборов вместе с кучами тряпья. Эти жуткие картины вызывали у Тобайаса только одно чувство — отвращение.
Он не унаследовал их облика. Все его черты говорили об этом. Волосы, брови и ресницы Тобайаса были до такой степени светлыми, что наводили на мысль о генетическом дефекте пигментации, а глаза — чисто голубыми, как у северянина. Волосы он причесывал гладко, темный — противу моды — костюм подчеркивал бледность кожи. Необыкновенно узкое лицо с удлиненным подбородком придавало ему мимолетное сходство с Фредом Астером[4]. Однако в глазах Тобайаса светилось не так веселье, как злорадство.