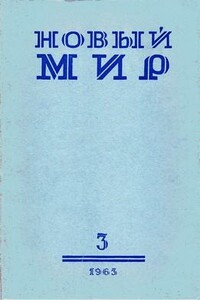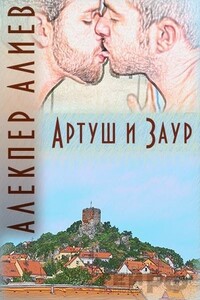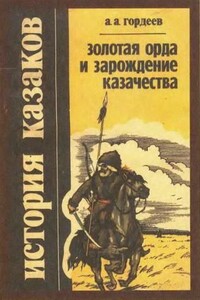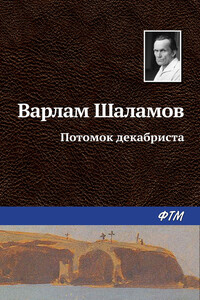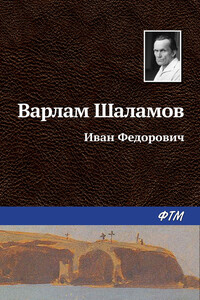Красиво и здесь, в этом маленьком городе, греческом провинциальном городишке. Вокруг горы, речки… И вы, господин Торнтон Уайлдер, конечно, совершенно правы. Какой прекрасной изображаете вы провинциальную жизнь в своей знаменитой пьесе «Наш маленький город»![1] Мы прочли ее и видели в Греции на сцене, и вы, конечно, правы, что в провинции никогда ничего не случается. Жизнь течет тихо и размеренно, безмятежно-спокойно, в раз навсегда заведенном порядке. Рано утром приходит молочник. Вскоре начинают продавать газеты. В полдень кончаются занятия в школе, и проголодавшиеся ребятишки весело возвращаются домой. Вечером девушки выходят на прогулку. Матери, бабушки, тетки, сидя у окна или на балконе, заставленном цветочными горшками, вышивают, предаются воспоминаниям. Мужчины заняты серьезными делами. Иногда кто-нибудь умирает — такое несчастье! Мы все отправляемся на кладбище, но там тоже ничто не исчезает бесследно. Они являются туда, стоят рядом с нами, совсем как живые — души наших возлюбленных покойников, а если идет дождь, то и они прячутся под наши зонты, чтобы не промокнуть, и беседуют с нами так рассудительно, так благоразумно — сначала о наших делах, потом о наших дочерях, которые уже выросли, повзрослели, невесты на выданье…
И больше ничего не случается. Ни там, у вас, в вашем прославленном маленьком городе. Ни здесь, у нас, в нашем бедном захолустье…
В один прекрасный день нашу безмятежно спокойную и размеренную жизнь несколько нарушило исчезновение Тудасюдаса. Ничего серьезного не произошло. Просто лавочники с нашей единственной торговой улицы на базаре, которые всегда видели его там, как только на часах муниципалитета било девять, не увидев его в то утро, стали спрашивать, что могло случиться. Решив, что он заболел, они послали мальчишку в подвальчик, где ютился Тудасюдас. Там его не оказалось. Они недоумевали. А в полдень, когда прошел по базару полицейский, младший лейтенант жандармерии — старше его по чину не было никого в нашем городишке, — на всякий случай сообщили ему.
Дознание показало, что Тудасюдас вовсе не приходил ночевать к себе в подвал. Тогда произвели тщательное следствие. Но и оно дало ничтожные результаты. Накануне вечером Тудасюдас до одиннадцати часов сидел в своем излюбленном винном погребке на северной окраине города и, как всегда, преспокойно пропивал свою дневную выручку. Как всегда, пьяный и, как всегда, тихий, он смиренно попрощался и ушел, как всегда, один. Здесь следы его теряются. Здесь дело становится темным и запутанным.
Одинокий пожилой человек, тихий, мирный и молчаливый, не отличавшийся никакими странностями, в здравом уме и полной памяти, он в течение многих лет выполнял на базаре мелкие поручения: тотчас прибегал помочь, куда бы его ни позвали, относил покупки, куда бы его ни послали, и вскоре возвращался на свое место — оттого и пристало к нему прозвище, настолько вытеснившее настоящее имя, совсем забытое, никому уже не известное, что он стал для всех Тудасюдас. Его заработка хватало на то, чтобы съесть в обед тарелку супа в харчевне на базаре и выпить вечером в винном погребке — всегда в одном и том же. Ровно в одиннадцать, еле держась на ногах, он уходил и отсыпался в своем подвальчике, утром в обычный час был уже на базаре.
Итак, куда он мог деваться? Уехать из нашего города — но зачем уезжать потихоньку? Ограбить, убить кого-нибудь — это бы раскрылось. Умереть — но куда пошел бы он умирать? Невозможно было понять, что случилось. И только когда прошла горячка, ребятишки на северной окраине города обнаружили, что случилось с Тудасюдасом. Там, в том квартале, где был его винный погребок, в нескольких шагах от него начиналась мощенная плитами площадь с колодцем посередине. Колодец высох, им уже не пользовались, и, так как дети из этого квартала целыми днями играли на площади, его прикрыли деревянным щитком, плотно пригнав его к низкому основанию, чтобы ребятишки не свалились в колодец и не произошли те драматические события, о которых мы читаем в «Женщине-убийце» и других рассказах нашего Пападиамантиса[2].
Итак, дети заметили, что деревянный щиток, успевший уже прогнить, сломан. Они не придали этому значения. Но через несколько дней из колодца стало распространяться нестерпимое зловоние, и они то и дело заглядывали туда. Увидев, что дети все время нагибаются над колодцем, взрослые, подойдя к нему, обнаружили, что щиток сломан, и тоже почувствовали зловоние — тут-то все и открылось. В колодце находился Тудасюдас.
Опять поднялся переполох, еще больший, чем прежде. Из окружного центра приехали прокурор, судья, врач, приехал и начальник жандармерии — снова началось следствие. Оно тянулось много дней и не пошло дальше того, на чем остановился наш полицейский. Самоубийство исключалось всеми. Если бы Тудасюдас хотел покончить с собой, то, очевидно, выбрал бы не этот колодец, совсем мелкий. А если бы он и хотел каким-нибудь образом в нем утопиться, то, прежде чем броситься в воду, он мог бы сначала снять щиток. не было никакой необходимости проламывать его головой, не говоря уж, конечно, о том, что самоубийство — привилегия более высоких слоев общества.