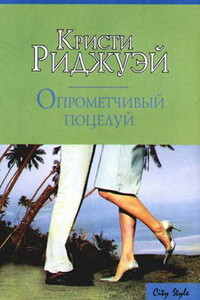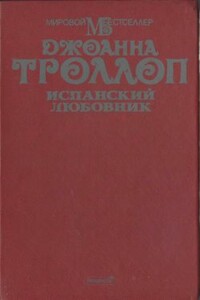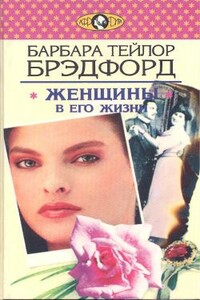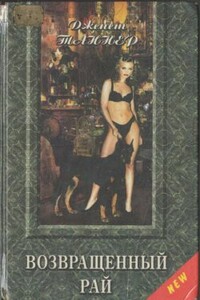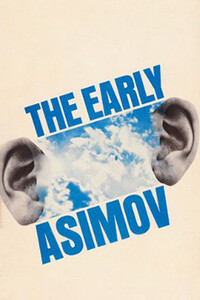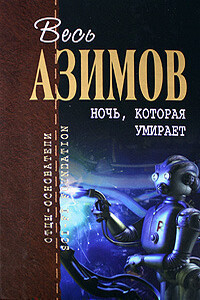Я держу тебя за руку и всё расплывается.
Успокой меня заново. Мне ужасно нравится,
Как ты выглядишь в этой нелепой шапочке…
Вы слышите музыку во сне? Или только видите картинки? А голоса… звучат ли они в вашей голове по ночам? И, если вдруг слышите, то что для вас эта музыка — напоминание о каком-то событии, состояние души или, может быть, исчезающее к утру ощущение, будто бы что-то слышал, а вроде бы — и нет?
Каждую ночь я слышу музыку. К утру, когда сон особенно беспокоен, когда обостряется физическая боль. Музыка просачивается в мой очередной кошмар сначала отрывистыми бессвязными звуками, потом — нарастающей мелодией. И вот уже: «Я держу тебя за руку…» звучит нескончаемым рингтоном в моей голове. Каждую ночь, вот уже 6 с половиной месяцев…197 чертовых дней…
А утром, которое наступает для меня еще в предрассветных сумерках, утром мой мозг терзает только один вопрос: «Почему я не умер? Почему я не умер с ними вместе?»
Ну, и, конечно, сны… Это, вообще, отдельная история. Я бы сказал, что мне снится один и тот же сон. Но это не совсем так. Обычно в начале я не вижу ничего страшного, но сердце уже стучит сильнее обычного в предчувствии, в ожидании того, что неменуемо должно случиться.
И ЭТО случается…
Я за рулем. Я знаю, что мне некуда торопиться, потому что наш самолет — только через три часа. И мы все успеем. На заднем сиденье в детском кресле сидит мой сын. Два зеленых тиранозавра в его руках то кусают друг друга, то яростно вгрызаются в мое кресло. Когда звучит «Случайно падали звезды…» он бьет по сиденью прямо мне в спину носком ботинка, причем четко попадая в ритм. Это немного раздражает, но я пока сдерживаюсь, хотя еще немного… и: «Сынок, прошу тебя, прекрати стучать!»
(Если бы я знал… если бы я только знал… я никогда не повысил бы на него голос. Да что там! Если бы я знал, я бы оставил его дома. Если бы я знал, я бы нашел эту тварь заранее и разорвал бы его на куски!)
Раздражение мурашками по коже ползет по рукам, от пальцев вверх под куртку… Но не столько из-за ударов, сколько по причине непрекращающегося нытья на пассажирском сиденье:
— Ромочка, милый… — (ну, какой я тебе, сука, милый? И «Ромочка» в сложенных уточкой, надутых стараниями недешевых хирургов, уродских губах звучит оскорблением). — Ну, может быть, еще не поздно? Я ведь и вещи собрала. Как Вадюша будет без меня?
— Он будет со мной, — мне казалось, я сказал, что называется, как отрезал. Но она, видно, считала по-другому. Потому что лахудра продолжала ныть, пытаясь поймать мой взгляд:
— Я договорилась в издательстве — мне согласны дать неделю в счет отпуска.
Все, что я мог сказать на это, стало бы фразой, состоящей из нецензурных слов. И я бы сказал, но в машине сидел ребёнок.
Стараясь не слушать ее, я думал о том, как мог я пять лет назад жениться на этой лахудре, как мог целовать эти мерзкие губы. Хотя, нужно быть все-таки честным с самим собой, такими они стали уже после нашего развода. И этот факт однажды тоже был камнем брошен в мой огород, ведь денег, что зарабатывал я тогда, на подобные вещи не хватило бы точно.
Только легко доставшиеся деньги имеют свойство быстро кончатся. Особенно деньги спонсоров. Особенно, если тратить их на шмотки и губы…
Наверное, тонкая струйка финансового потока была перекрыта очередным мужиком, не сразу, но все-таки разглядевшим внутри спелой и сочной кожуры гнилую сердцевину.
Мне на этот процесс понадобилось три года, целых три года!
Наконец-то, мы подъехали к дому, где теперь жила лах… Вероника. Нужно было только пересечь перекресток. Я точно видел зеленый на своем светофоре. Соответственно, на светофоре справа должен был быть красный. Я достаточно медленно выехал на перекресток…
Этот момент… за секунду до… самый страшный. И он самый медленный. Растянутый, разрезанный на кадры, тягучий… Я успел только повернуть голову вправо, туда, откуда неслась на нас большая чёрная машина. Потом, удар. Вспышка — как будто в моем мозгу взорвалось что-то. И тишина.
… И где-то вдалеке, на самом краешке сознания тихий, прерывающийся всхлипами, голос, держащий меня, не дающий соскользнуть во тьму:
— Ромочка, сыночек, держись… Только не умирай!
Пришёл в себя в больничной палате, не помня (о, это блаженное чувство неведения, незнания, при воспоминании о котором потом, когда приходит боль, думаешь: «Не знаю, значит, этого нет»).
Мама спящая, сидя на стуле. Седая голова (не замечал никогда, что у нее волосы уже такие белые… Как? Когда?) лежит на ладонях, ладони на моей руке.
Ничего себе, как замлело тело — ноги совсем отлежал! Пить… Пить хочется ужасно… Что со мной? Почему я в больнице?
Ещё не вспомнив, почему-то начинаю волноваться.
— Мама, мама, — не голос, нет, шепот, скрип какой-то… Рука слушается, пошевелил ею. Она тут же подняла голову.
— Ромочка, сыночек, — губы ее задрожали, затряслись, из глаз, красных, воспаленных, полились слезы.
— Нет, мама, нет, не говори ничего, — голос вдруг обрёл силу, — Где он? Где Вадик? Мама-а-а…
Вот именно тут я и просыпаюсь. Естественно, сто девяносто седьмой раз своим бешенным криком бужу свою несчастную мать. И все повторяется сначала.