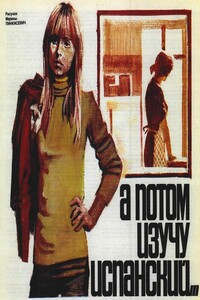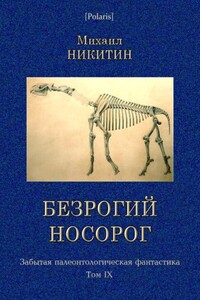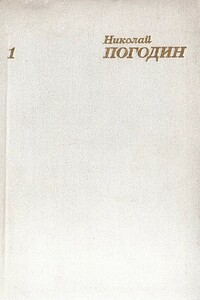Скверное не сделается хорошим, сколько бы его ни почитали.
Мирхонд
Спустя долгие годы — почти через три четверти века — многое трудно восстановить в памяти.
Но вот слов, произнесенных за вечерним чаем у самовара, в семье доктора, в Самарканде, не забыть никогда:
Доносчик — горечи яд;
Влечет гибель,
сулит бедствия.
Произнесенные в обыкновенной столовой, за покрытым белой скатертью столом, уставленным «кузнецовским» простеньким сервизом, слова эти прозвучали напыщенно. И, естественно, заставили насторожиться молодежь, скромно расположившуюся в конце стола. И скорей всего потому, что произнесены они были величественным восточным вельможей, во внешнем облике которого прежде всего бросались в глаза великолепная борода, белейшая чалма и в широченных желтых, красных и белых полосах бухарский халат тугого шелка. И столь же экзотично прозвучали слова из какой-то сказки Шахерезады про доносчика, сколь был экзотичен в скромной докторской квартире этот бухарский вельможа Сахиб Джелял, которого доктор и его семья знали еще в кишлаке Тилляу.
В Самарканд Сахиб Джелял приехал представителем правительства Бухары с какой-то высокой миссией.
Он величественно восседал за чайным столом и внушительно пояснял:
— О зловредных и гнусных доносчиках те слова произнес в древности аравийский мудрец и философ Ибн Хазм… — И Сахиб Джелял добавил еще: — В те времена под тяжестью предателей-доносчиков земля пришла в изнеможение. Бойтесь, о юноши, доносчиков!
Слова, произнесенные Сахибом Джелялом за чашкой чая, были первым звеном в цепи событий, участниками которых, по воле обстоятельств, оказались доктор и его сыновья. И эти события хранит память, несмотря на то, что прошло почти три четверти века.
Мужественная душа покончит с тщетой забот минувшего, с обманными призраками будущего.
Хосров
Грохот, оглушительный стук колес на стыках рельсов. Раскачивающийся вагон.
Поезд мчится с отчаянными гудками, похожими на вой первобытного ящера, сквозь ночную тьму, особенно глубокую внизу. Ветер, врывающийся на площадку тамбура, несет с собой песчинки и горячие угольки, от которых слезятся глаза. Но именно и грохот, и тьма, и гудки паровоза, и громовое эхо в садах и полях, и даже скрип песка на зубах, и боль от соринки в глазу — все так интересно, таинственно, удивительно. Приключение! Да еще какое!
Относительно светлый проем двери — на площадке вагона тогда не имелось фонарей — заслоняет высокая фигура.
Это доктор Иван Петрович.
Он вглядывается в темноту, встав на ступеньку вагонной лесенки и держась за поручни. В другой руке у него был тяжелый тюк. Что в нем, мальчики узнали не сразу, Весил тюк очень много.
Иван Петрович дал его не носильщику, а мальчишкам, своим сыновьям.
Затем этот тюк мирно трясся на верхней полке, обернутый стеганым ватным одеялом и брезентовым чехлом, затянутый добротными ремнями, пахнущими кожей и путешествиями.
И два жандарма, заглянувшие с разрешения Ольги Алексеевны в купе 1-го класса, лишь равнодушно скользнули глазами по этому благопристойному багажному «месту».
Чесучовый с погонами китель, который доктору ужасно хотелось снять в духоте вагона, вызвал у голубомундирных жандармов почтение.
— Приносим извинения! Знакомимся с составом пассажиров! — доложил, держа под козырек, по-видимому, старшой. — Указание-с! Для порядку. Тут в поездах кабы кто не проскочил.
Ольга Алексеевна надменно спросила:
— И что? Они в первом классе путешествуют, эти проскакивающие?
— Ради бога, извините за беспокойство, мадам, — галантно поклонившись, ответил чин помоложе. — Именно-с. Но миль пардон! Тысячу извинений! Ради бога… Мы для проформы.
Дверь поехала на свое место.
— Я же говорила, что китель обязателен.
— Ужасная духота! — доктор носовым платком вытер лицо.
— Потерпим. Ты видишь, и моя парижская модель… произвела впечатление.
Действительно, Ольга Алексеевна в пыльном, полном сажи купе — окно-то было открыто — выглядела так, будто только что сошла с обложки модного журнала.
— Что ж, — поглядывая на извлеченные из кармана часы, проговорил доктор, — у нас в запасе еще часа три.
— Интересно, — заметила Ольга Алексеевна, — а они посмели заглянуть в купе господина визиря?
— Кто их, наглецов, знает…
Оказалось, посмели. И далее шарили в чемоданах и хурджунах бухарского вельможи. Хоть Бухара и не пользовалась дипломатическими привилегиями, визирь был возмущен и обещал господам жандармам подать на них жалобу. Впрочем, не сам он. Он предоставил удовольствие объясняться с ними своему секретарю, бойкому, но в то же время вкрадчивому домулле.
Вельможа — это был Сахиб Джелял — зашел в купе к доктору и из белых ручек Ольги Алексеевны принял большую фарфоровую чашку чая, взглянув на тюк, лежавший на полке.
— И вы думаете, что Георгий-ака уже знает?
— Да, Шамси вернулся и сказал, что передал рабочему сверток с… оружием.
— Вы ужасно разболтались, милостивые государи, — с досадой заметила Ольга Алексеевна. — Пейте чай. Одно могу сказать: Шамси ужом проползет…
— Шамси — толковый йигит. На станции и разъезде полно полицейских. Хозяин поместья… сада, господин Дерюжников, ужасно боится революционеров из города. И сам ходит с заряженным револьвером. Похваляется: «К нам и фаланга не проползет!»