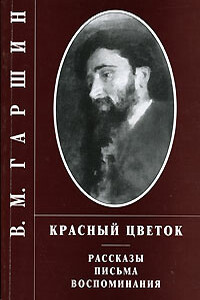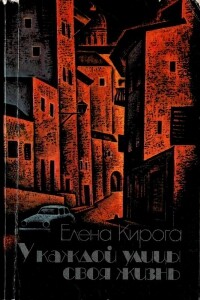Поведем речь о статье, над которою произнесён смертный приговор, т. е. о статье под названием «О лиризме наших поэтов». Прежде всего, благодарность за смертный приговор! Вот уже во второй раз я спасён тобою, о, мой истинный наставник и учитель! Прошлый год твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотел послать Плетнёву в «Современник» мои сказания о русских поэтах; теперь ты вновь предал уничтожению новый плод моего неразумия. Только один ты меня ещё останавливаешь, тогда как все другие торопят неизвестно зачем. Сколько глупостей успел бы я уже наделать, если бы только послушался других моих приятелей! Итак, вот тебе, прежде всего, моя благодарственная песнь! А затем обратимся к самой статье. Мне стыдно, когда помыслю, как до сих пор ещё я глуп и как не умею заговорить ни о чём, что поумнее. Всего нелепее выходят мысли и толки о литературе. Тут как-то особенно становится всё у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выражением вызвал на противоречие. Вновь повторяю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твёрдый возлёт в свете разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносове и Державине, даже у Пушкина слышится этот строгий лиризм повсюду, где ни коснётся он высоких предметов. Вспомни только стихотворенья его: к пастырю церкви, Пророк и, наконец, этот таинственный побег из города, напечатанный уже после его смерти. Перебери стихи Языкова и увидишь, что он всякой раз становится как-то неизмеримо выше и страстей и самого себя, когда прикоснётся к чему-нибудь высшему. Приведу одно из его даже молодых стихотворений, под названием Гений; оно же не длинно:
Когда, гремя и пламенея,
Пророк на небо улетал,
Огонь могучий проникал
Живую душу Елисея.
Святыми чувствами полна,
Мужала, крепла, возвышалась
И вдохновеньем озарялась
И бога слышала она.
Так гений радостно трепещет,
Своё величье познаёт,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полёт.
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зреет для чудес,
И миру новые светила —
Дела избранника небес.
Какой свет и какая строгость величия! Я изъяснял это тем, что наши поэты видели всякой высокой предмет в его законном соприкосновеньи с верховным источником лиризма — богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской природы уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему. Я сказал, что два предмета вызывали у наших поэтов этот лиризм, близкий к библейскому. Первый из них — Россия. При одном этом имени как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, всё становится у него шире, и он сам как бы облекается величием, становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то более, нежели обыкновенная любовь к отечеству. Любовь к отечеству отозвалась бы приторным хвастаньем. Доказательством тому наши так называемые квасные патриоты: после их похвал, впрочем, довольно чистосердечных, только плюнешь на Россию. Между тем заговорит Державин о России — слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России. Одна простая любовь к отечеству не дала бы сил не только Державину, но даже и Языкову, выражаться так широко и торжественно всякой раз, где ни коснётся он России. Например, хоть бы в стихах, где он изображает, как наступил было на неё Баторий:
...Повелительный Стефан
Один могущественный стан
Уже сбирал толпы густые —
Да ниспровергнет псковитян,
Да уничтожится Россия!
Но ты, к отечеству любовь,
Ты, чем гордились наши деды,
Ты ополчилась. Кровь за кровь —
И он не праздновал победы!
Эта богатырски-трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России, рождается от невольного прикосновения мысли к верховному промыслу, который так явно слышен в судьбе нашего отечества. Сверх любви участвует здесь сокровенный ужас при виде тех событий, которым повелел бог совершиться в земле, назначенной быть нашим отечеством, прозрение прекрасного нового здания, которое покамест не для всех, видимо, зиждется и которое может слышать всеслышащим ухом поэзии поэт или же такой духоведец, который уже может в зерне прозревать его плод. Теперь начинают это слышать понемногу и другие люди, но выражаются так неясно, что слова их похожи на безумие. Тебе напрасно кажется, что нынешняя молодёжь, бредя славянскими началами и пророча о будущем России, следует какому-то модному поветрию. Они не умеют вынашивать в голове мыслей, торопятся их объявлять миру, не замечая то, что их мысли ещё глупые ребенки, вот и всё. И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг: из них один только бывал избранник божий, которого сказанья вносились в святую книгу еврейского народа; все же прочие, вероятно, наговаривали много лишнего, но тем не менее они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умели сказать здраво и ясно; иначе народ побил бы их камнями. Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? — Затем, что сильнее других слышит божью руку на всём, что ни сбывается в ней, и чует приближенье иного царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов. И этого не может быть у поэтов других наций, как бы ни сильно они любили свою отчизну и как бы ни жарко умели выражать такую любовь свою. И в этом не спорь со мною, прекрасный друг мой!