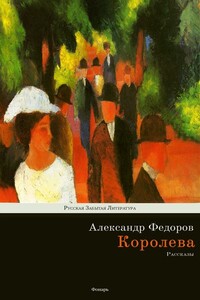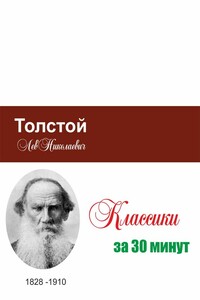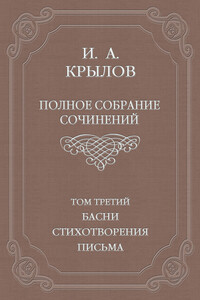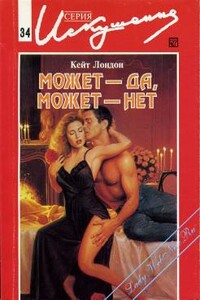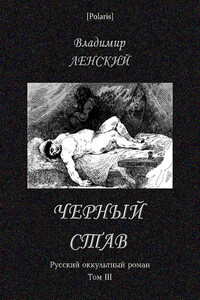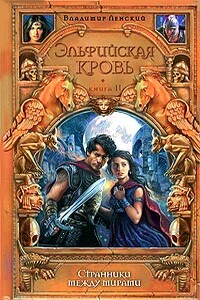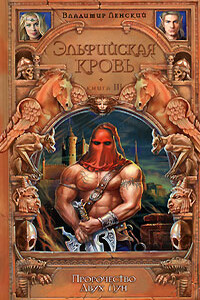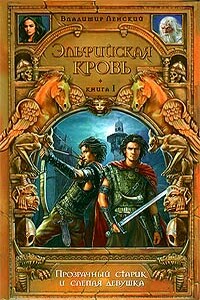«Нельзя отрешиться от Него без некоторого ужаса».
Мальбранш. «Разыскания истины». Т. I, кн. 3
Я ищу Тебя, чтоб жила душа моя.
Бл. Августин
В глухом местечке Подольской губернии, куда я случайно попал, я доживаю мои последние дни. Кладбища многих городов казались мне невыносимыми с их декорациями из мрамора и железа. Кладбище польско-еврейского местечка, убогое и глухое, показалось мне подходящим для меня. Здесь, между холмами и деревянными оградами, можно спокойнее и глубже заснуть под старым явором или шелковицей, которая знойным летом будет ронять черные ягоды, разбрызгивающие на траве красную кровь своего сока.
Когда я начинал свой путь, я весь был полон жажды и предчувствий, что есть Вечный Свидетель моей жизни и всех моих блужданий и тревог. Мне чудилось склоненное надо мной с высоты синего неба лицо Господа Бога, который знает, куда я иду и знает, «что» я иду, знает сущее моей жизни и ждет меня с этим сущим.
Не пожалеть ли мне горько о том, что я не жил как трава, как дремлющая под солнцепеком овца; я бы знал растительный покой, вещий сон дремлющей природы. Я бы жил-спал этим тучным сомнамбулическим сном трав и животных, осуществляя неведомую истину бытия бога-земли, бога-природы…
Я искал глубины и задыхался на поверхности. Теперь пришел час все кончить. Я прожил мою жизнь — и неудовлетворен до исступления.
I
Я был последним ребенком, плодом поздней страсти, родился с мутной нездоровой кровью. Я помню в детстве головные боли, тяжесть в мозгу, боль в глазных впадинах. Я был маленьким маньяком: я размышлял, я задумывался, ждал. Меня преследовала мания тайного, что кроется за всем внешним движением мира. Непонятность его, непонятность самого себя, своего тела, ощущений в нем, непонятность других людей, которые почему-то чувствуют и понимают в согласии со мной, — все это ложилось бременем на детский мозг. Я испытывал страх тайного и влечение к нему.
Из самой глубины ранних воспоминаний я сохранил ощущение оставленной людьми комнаты, загроможденной мебелью, где тяжело и неподвижно свисали концы скатерти со стола, а сквозь пустые занавеси скупо пробивался свет. Я застывал в такой тишине пустых комнат, я затаивался, я прислушивался, я ощущал стены, мебель, воздух, свет… Позади меня раздавался какой-то шорох, какой-то скрип, однообразное, чуть слышное звучание, отголоски иной жизни. Если оглянуться быстро через плечо, может быть, и успеешь поймать облик этой жизни, может быть, он и не успеет скрыться. О, какие томительные, какие жалобные звуки порой раздавались в самой глубине тишины; кто-то жаловался, кто-то просился в душу, в сознание, издавая тихий голос своей жизни… Но люди как будто сговорились не обращать внимания на эти следы тайной жизни, делая вид, что их нет. Только дети пугливо оборачиваются на эти звуки и что-то тянет их подсмотреть и войти в скрытую жизнь.
Когда я побывал в церкви и посмотрел в глубину купола и увидел святых в мантиях с серебряными ногами; когда, придя в синагогу, я увидел, как вынимают свитки Торы в бархатных покровах, — я еще более убедился, что люди знают все, что есть тайного в жизни… Но вот я и сам, уйдя из страны детства, потерял этот дар прислушивания и внимания к тайному и очутился в обезбоженном мире.
Так в ощущении двух миров я рос и брел своими еще маленькими детскими ногами по большой старой земле. Вскоре я увидел далекие просторы полей, вдохнул прохладный ветер из далей. Я узнал, как широка земля и мне понравилось, что есть столько углов и стран и различных мест на земле, среди морей, степей и гор. И захотелось мне всюду быть и все видеть, чтобы везде уловить в своеобразии местной жизни тот же единый отблеск не нашего, таинственного… Когда я немного подрос, мне стала казаться вся земля таинственной и чудесной. Я стал горячо мечтать о скитаниях.
Четырехлетним мальчишкой я побывал на берегу синего и быстрого Днепра, в глухом городке; потом в деревне, близ большого южного города, потом в Бессарабии, потом в Литве. Меня возили вслед за дядькой, подрядчиком, к которому я попал, когда на третьем году остался круглым сиротой. Я помню маленькие городки рабочих за городом, канавы, мосты, груды бревен, досок, кирпича и камня; обеды артелей над котлами с кашей и щами и в полдень тяжелый мертвый сон. Я помню красное чугунное лицо дядьки, его рыжие усы над ртом, который раскрывался, как труба, и обдавал десятских и рабочих оглушительными бранными словами.
Кругом дышало тихое, сожженное зноем поле; марево дрожало вдали; крики, шум и стук топоров стоном стояли в воздухе. Я с детства возненавидел работы, их шум, озлобление и горячий пот, стекающий с грязных лиц; бессмысленное и тупо-злое выражение людей, обращенных в машины для сноски, копанья или укладки камней.