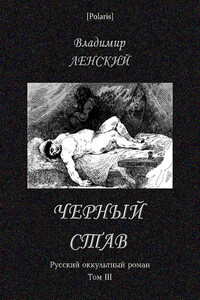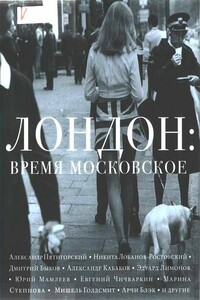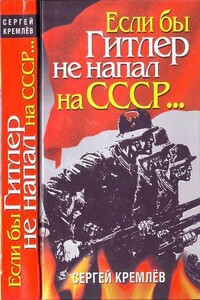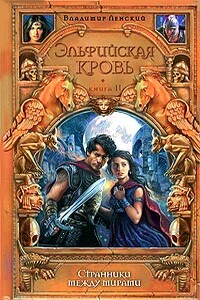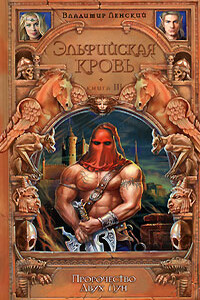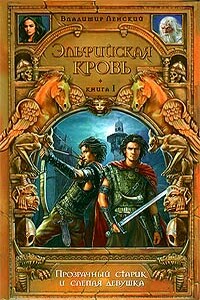Богатый мужик, по фамилии Бурба, приехавший неизвестно откуда, купил Мазепово или, как его называли местные крестьяне — Чертово Городище, и с первого же дня принялся там так хозяйничать, что только треск и стон пошли кругом.
Это было одно из красивейших мест древней столицы Малороссии — Батурина; когда-то, в исторические времена Украины, Городище представляло собою богатую усадьбу с великолепным барским домом и многочисленными службами, окруженными огромным парком, разбитым на холмах, высоко над Сеймом.
Теперь от дома и служб не осталось и следа; только парк, сказочно разросшийся за несколько столетий, по-прежнему темнел над рекой своими гигантскими вязами, вербами и тополями и в непогоду глухо шумел, точно вспоминая старину и рассказывая о чудесах давнего времени.
Никто не знал, кому принадлежало это имение, и никому и в голову не приходило, что оно продается и может сделаться частной собственностью. Поэтому население Батурина было крайне удивлено, когда разнесся слух о покупке Городища каким-то простым мужиком и возмущено его бесцеремонным и наглым хозяйничаньем в усадьбе.
А хозяйничанье Бурбы выразилось прежде всего в том, что он стал рубить старые вековые деревья и из них строить себе дом. В самой середине парка образовалась большая поляна, вся усеянная торчащими пнями срубленных вязов и тополей, и на этой поляне выросла хата, крытая соломой в щетину, как у богатых крестьян, с резным деревянным крыльцом и фигурным гребнем.
Покончив с хатой, Бурба продолжал вырубать парк, вывозя бревна для продажи в соседний город Конотоп. Его, видимо, сильно беспокоило то, что на покупку Городища ему пришлось затратить почти весь имевшийся у него капитал, и он старался возможно скорее выжать эти деньги из самого же имения, нисколько не считаясь с тем, что это выжимание сопровождалось обезображиванием местности и уничтожением памятника старины.
Об этом Бурба совсем не думал. О Мазепе он знал по-насльшке, рассказы о нем считал стариковскими сказками и не верил в то, что тот когда-нибудь существовал и жил в этом парке. Да если бы это даже и было так — какое Бурбе до него дело? От Мазепы уже и костей не осталось, а Бурба был живой человек и ему нужно было думать прежде всего о себе.
Считая весь мир одной усадьбой, существующей только для того, чтобы он мог извлекать из нее возможно больше для себя выгод, Бурба вырубил почти весь парк, оставив только молодую поросль, несколько тощих тополей у хаты и над самым склоном к Сейму — пять старых, дуплистых, уже не годившихся для продажи вязов.
Оголенные холмы с торчащими пнями, похожие на щетку, приняли жалкий, пустынный вид полного разорения и нищеты. Там, где прежде так привольно, дико и гулко рокотали тополя и мелко, серебристо шелестели осины и вязы, где сумрак густых ветвей целый день звенел от несмолкаемого гама, свиста и пения птиц — теперь растерянно блуждал и носился ветер, грустный и бесприютный, плача и стеная, точно на могиле близкого, родного человека, от которого ничего не осталось…
Всю эту операцию с рубкой парка и продажей деревьев Бурба совершил ранней весной, когда снег только что стаял с полей и холмов и Сейм разломал свои ледяные оковы и с грохотом и шипеньем погнал упрямо упиравшиеся льдины к своему батьке-Днепру.
Когда в конце апреля прилетели в Городище соловьи — они не нашли не только своих гнезд, но и самого парка, который прошлой весной так чудесно оглашался по ночам с разных концов их трелистым перекликаньем.
Покружившись в печальном недоумении над голыми, щетинистыми холмами и посоветовавшись между собой, они взяли лет в сторону кочубеевского сада и там решили устроиться, несмотря на близость людей и их жилищ.
Никто не помнил, чтобы в кочубеевском саду было когда-нибудь так много соловьев, как в эту весну…
А весна выдалась на славу.
Правда, часто перепадали дожди и на улицах Батурина стояла непролазная грязь, но зато было тепло и в воздухе пахло чем-то таким приятным, нежным, сладким, что на душе становилось радостно, точно пришло Бог весть какое счастье.
А когда показывалось и начинало пригревать солнце — можно было совсем потерять голову и забыть о всяких делах, шатаясь из улицы в улицу по мягким, едва протоптанным, просыхающим на солнце тропинкам, среди огромных луж и глубокого, грязного месива, в котором, блаженно похрюкивая, копошились исхудавшие за зиму, облезшие свиньи…
Рано в этом году зацвели фруктовые деревья.
Весь Батурин тонет в садах. При каждой, самой захудалой хатенке, с торчащей клочьями на крыше соломой, со свороченной ветрами набок трубой, с кривым, точно пьяным, на подпорках, крыльцом — есть непременно сад, хоть и небольшой, но густо засаженный деревьями, среди которых можно найти и яблони, и сливы и груши, а на улице перед окнами — узенький палисадник с двумя-тремя топольками и вишнями.
Вишен особенно много в батуринских садах, — может быть, потому, что ни одно дерево не бывает таким красивым, нежным, грациозным во время цветения, как вишня. Ее ветви, впрочем, не менее прекрасны и в то время, когда среди темно-зеленой листвы, напоминающей лавры и имеющей почти тот же запах, яркими рубинами, точно капельки крови, краснеют зреющие вишни…