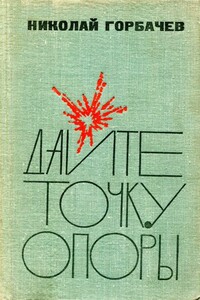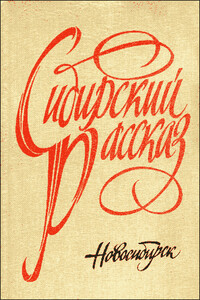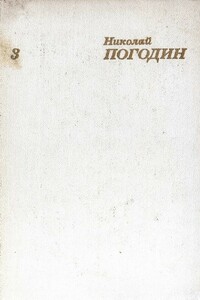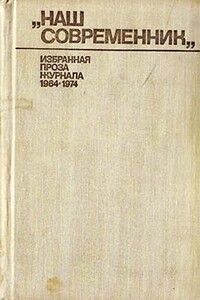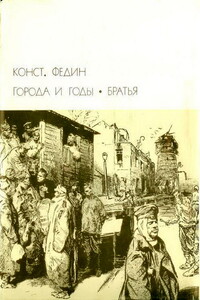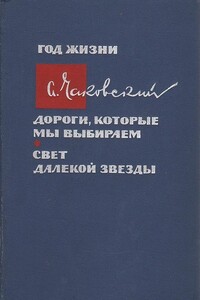Янов стоял завороженный, и это чувство всякий раз, когда приезжал из Москвы сюда, на полигон, захватывало его с одинаковой силой, словно все испытывал впервые, сталкивался с первозданной красотой один-единственный раз и в жизни ничего никогда похожего не было и не будет…
Огненный шар вдали только-только оторвался от изогнутой в четкую дугу линии горизонта — тут, в степи, на бескрайнем ее лежбище, и можно понять, что земля кругла и шар солнца не шар, а, скорее, медно-красный надраенный таз. И воздух лишь в эти часы стеклянный, хрустальной чистоты, будто звенят невидимые бесчисленные колокольчики и звон их сливается в одну незамысловатую, но вместе и возвышенную мелодию, от которой все внутри отзывается звоном.
Он любил степную беспредельность, особенно в ранний час тишины, покоя, еще полусонной дремоты. Не случайно в это утро ушел не в густотравную, цветущую пойму реки, начинавшуюся сразу за обрывистым берегом позади финских под красной крышей домиков — гостиниц для приезжего высокого начальства. И дело не в крутом береге — полигонное начальство позаботилось: в крутояре пробиты удобные пологие сходы, — пожалуйста, иди к воде, к песчаной отмели. Но он ушел в степь, перерезав по краю еще сонный, в лесах стройки Кара-Суй, и тут-то замер, пораженный.
Какая тишина! Какой покой! Он на минуту забылся — почему вообще здесь, в Кара-Суе, а не в Москве? И в забытьи, в завороженности ловил с улыбкой и дыхание свежего, еще прохладного воздуха и словно бы ощущал физически невидимую тягу скудной природы к солнцу, к новому дню: ему казалось, что он видел, как поднимались от земли пупырчато-острые колючки верблюжьей травы, как, шевелясь, расправлялись проволочно-спутанные клубки перекати-поля…
Все это он чувствовал. Пусть и не был настроен для сантиментов да и ушел из домика, просто чтоб разогнать тяжесть бессонницы и вот эту нудную, тягучую боль под сердцем. Впрочем, она не отступала. Наоборот, он, верно, переборщил с таким дальним путешествием: пройдет всего час, взмутится воздух, нальется сухой каленостью, как в бане «по-черному», — обратный путь будет труднее. И, мысленно возвращаясь к тому, что беспокоило его, ввергло в бессонницу, подумал: «Да, верно, решение комиссии ответственно!..» Но тут же, озлясь и словно вступая в спор с собственным внутренним голосом — он-то и точил, будто червь, всю ночь, — воскликнул:
— Что ж, и твоя тут роль! Но не по власти — маршал, председатель государственной комиссии, — а по праву совести, памяти о Сталинградской битве, всей войны. По праву памяти о тех убитых в яру, той девочки в старушечьем полушалке…
Повернув назад, зашагал напрямик, по песчаным сухим кочкам, устланным верблюжьей колючкой, поросшим высокими, хвостатыми, острыми, точно иглы, пучками чия, к тесно сбежавшимся домам Кара-Суя, мысленно, как вчера на заседании комиссии, спорил с Борисом Силычем Бутаковым. Сейчас баритон главного конструктора отчетливо всплыл в памяти, хотя в голове пошумливало от бессонницы.
«Всем ходом последних испытаний мы доказали, что «Катунь» может быть принята, однако государственная комиссия, Дмитрий Николаевич, затягивает, мягко говоря, принятие системы».
«Охотно верю, что у вас нет, Борис Силыч, оснований сомневаться. Нет их и у меня. Но есть предложение: проверить боевую способность всей аппаратуры в комплексе».
«И хотя это против записанного задания на госиспытания…»
«Но зато не против логики. Не в бирюльки играем — принимаем на вооружение сложную ракетную систему!»
«Повторяю: и хотя это против записанного задания, предлагаемый эксперимент не выявит криминалов».
«Уверены?»
«Уверены! Просто лишний, неоправданный расход ракет, государственных денег. Мы доказали…»
«Первому ко́ну не радуются!»
«Отчего же, Дмитрий Николаевич? Впрочем… если комиссия считает нужным…»
«Товарищ генерал Сергеев, подготовьте все — отдайте распоряжение командиру авиаотряда о мишенях…»
И тут только услышал шум мотора и, подняв глаза, увидел — прямо на него, встряхиваясь и неуклюже переваливаясь на кочках, наезжал черный «ЗИМ». Передняя дверца распахнулась на ходу, выскочил низенький майор Скрипник, адъютант. Взбив начищенными сапогами желтое облачко песка, торопливо засеменил навстречу, со сдержанной взволнованностью доложил:
— Товарищ маршал, Москва… Просит секретарь ЦК!
Лицо у Скрипника окаменело: адъютант все никак не привыкнет спокойно относиться к «высоким» звонкам.
Внутренне улыбнувшись, Янов кивнул. Уже в машине, когда она развернулась, подумал: «Ясно, дорого́й Борис Силыч связался напрямую, успел сообщить…» И на миг припомнил лицо секретаря, как будто взглянул вопросительно: «Что можно ждать от разговора?»
За стеклом замутнел, задымился реденько воздух — степь нагревалась, а за Кара-Суем, за домами, все ближе набегающими на машину, над поймой реки молочной белью еще стлался туман.
Должно быть, и начальника полигона известили о звонке, он ждал в кабинете, поднялся навстречу Янову — высокий, грузный, в серой форменной рубашке, заправленной в брюки, с огненно-красными лампасами.
Кабинет простой, на белых боковых стенах два портрета, третий над столом — поясной — генералиссимуса, скромно, без единого ордена. Мебель полумягкая, без претензий. Все говорило, что хозяин проводит тут немного времени. И точно: генерал мотался по бетонкам с одной испытательной площадки на другую — зимой в «ЗИМе», летом в открытом «газике».