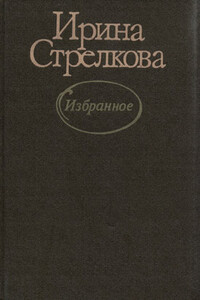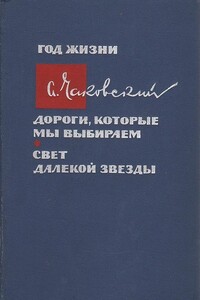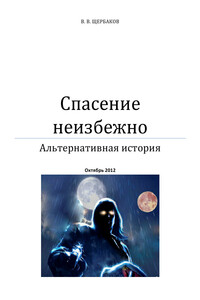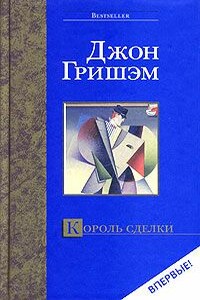Рассказ
Я люблю ездить на дальних поездах.
Особенно хороши первые часы пути, когда, разложив вещи, пассажиры усаживаются наконец внизу и начинают рассказывать, кто куда едет, по каким делам, начинают знакомиться и приятно поражаться, случайно удостоверившись в том, что имеют общих друзей, или в том, что сражались на одном фронте.
А за окнами, на фоне безоблачного, гладкого неба, плавно, медленно сдвигаются и раздвигаются провода, и от этого кажется, что поезд идет тихо. Но вот все быстрее мелькают телеграфные столбы, и бывалый командированный, знающий все, вплоть до цены моченых яблок в Чернигове, сообщает, что едем под уклон со скоростью шестидесяти километров в час.
Незаметно наступает недолгий вагонный вечер. Командированный разбирает постель, ворочаясь на второй полке, как шахтер в забое. В сумеречной глубине дальнего купе тихо-тихо наигрывают на баяне «Катюшу», разговоры догорают, все реже и реже хлопает дверь, ведущая в тамбур, и только взлохмаченный человек с университетским ромбиком на лацкане пиджака уже третий раз проходит по вагону, безнадежно разыскивая преферансистов.
Ночью на аспидно-черных толстых стеклах появляются косые многоточия дождевых капель. Мерцая, проплывает огонек одинокой, затерянной в лесу сторожки путевого обходчика. Проплывают леса, пашни, города. А пассажиры спят. Спят хозяева этих лесов, этих городов и пашен.
Вот и сейчас напротив, на боковой полке спит курносый парень с рассыпчатыми русыми волосами.
Прошло два часа с тех пор, как мы выехали из Ленинграда. Уже глубокая ночь. А я смотрю на курносого парня, на его лицо, сердитое во сне, и все больше и больше убеждаюсь в том, что где-то я его видел.
Я смотрю на него десять минут, пятнадцать, перебирая в памяти свои поездки и встречи, но ничего не могу вспомнить. Видимо, пути наши пересеклись давно и ненадолго.
Парень сладко чмокает и поворачивается на другой бок. На его красивой мускулистой руке, в том месте, где прививают оспу, виден длинный кривой шрам.
«Да ведь это тот самый Шура, который провожал Ивана Афанасьевича на юг?» — мелькает в моем уме.
И я внезапно вспоминаю и этого парня и Ивана Афанасьевича, вспоминаю связанную с ними историю, конец которой мне так и остался неизвестным.
Начало истории такое: летом прошлого года мне пришлось ехать на Черноморское побережье для уточнения изыскательских данных по проектированию подпорных стенок.
Задолго до отхода поезда я сидел в вагоне со своими рейками и теодолитом. Вагон постепенно наполнялся. В наш отсек вошли девушка-студентка, работник Пулковской обсерватории и дородная украинка, гостившая у сына-инженера. А за четверть часа до отхода поезда вбежал запыхавшийся старичок.
Он появился, окруженный шумной толпой ребят, видимо, недавно окончивших ремесленное училище. Они провожали его. Среди них был и этот Шура. Ребята несли вещи старичка: чемодан, запертый на висячий замок, и перину, туго стянутую ремнями.
Толкаясь и перебивая друг друга, ребята вышли и столпились на перроне у закрытого окна. Позади них я увидел женщину лет пятидесяти в платке и макинтоше. Она смотрела в окно и плакала. Иногда она сердито пыталась убедить в чем-то шумливых ребят, но быстро спохватывалась и начинала плакать снова. Старичок сидел у окна, придерживал одной рукой чемодан, а другой раздраженно махал ей, чтобы уходила домой.
Наконец поезд тронулся.
В правом окне виднелся экскаватор, копающий котлован, и люди возле него, в левом — заводские корпуса, окруженные лесами, и возле них тоже люди, люди.
— Двутавры кладут; вон сколько народа, — проговорил старичок, ни к кому, впрочем, не обращаясь.
Он сидел, уставившись в окно и подперев кулачком подбородок так, что белая бородка его топорщилась. Судя по его пальцам, он был металлист. Моя догадка подтверждалась и тем, что, доставая из кармана брюк папиросы, старичок делал такое движение, словно поднимал край длинной, ниже колен, блузы, хотя на нем был надет узкий пиджак.
Я попробовал заговорить с ним. Он делал вид, что не слышит или отвечал с явной неохотой. Потеряв всякую надежду на знакомство, я пошел в соседний отсек играть в домино и рано улегся спать.
Проснулся я ночью. В вагоне было темно, и, лежа на верхней полке, я едва различал фигуру старичка. Облокотившись о столик, он неподвижно сидел в углу и по-прежнему упрямо смотрел в окно, хотя ничего не мог видеть в кромешной тьме ночи. Поезд замедлил ход, за окном проплыл электрический фонарь, через все купе словно перевернулась большая яркая страница, и на секунду стало видно грустное лицо старичка. А потом опять потемнело, колеса затараторили чаще, и огни за окном исчезли.
— Вы куда едете? — тихо спросил я.
— В отпуск, — ответил он, не поворачивая головы. — Путевку дали.
— В дом отдыха?
— В дом отдыха. Цихидзири какой-то…
— Вот как! Я тоже буду в Цихис-дзири!
На это старичок ничего не ответил. «Цихис-дзири — так Цихис-дзири. Много там будет полуночников, вроде тебя, в этом Цихис-дзири», — так и читал я в его сгорбленной фигуре.
Чем больше я смотрел на его ноги, обутые в ботинки и калоши, на петельку вешалки, смешно торчащую из-за ворота его пиджака, тем более одиноким казался мне этот отправившийся в дальний путь человек. Я решил не навязываться и отвернулся.